![Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, Джон Клостерман (так считается), около 1685-1690 (деталь) [Предоставлено Национальной портретной галереей, Лондон.]](/img/b/bobe_s_l/marlborough_vol1/marlborough_vol1-1.png)
|
|
||
Том первый.
Уинстон С. Черчилль.
Перевод Crusoe.
С электронного издания 2014 by RosettaBooks, LLC, New York.
ISBN Mobipocket edition: 9780795329890.
Принятые сокращения.
B.M. = British Museum Library (Библиотека Британского музея).
C. = Chancery Records in the London Record Office (Документы королевской канцелярии Лондонского государственного архива).
C.S.P. = Calendar of State Papers (Реестр государственных документов).
C.S.P. (Dom.) = Calendar of State papers, Domestic Series (Реестр государственных документов, внутренние дела).
D.N.B. = Dictionary of National Biography (Национальный биографический словарь).
H.M.C. = Report of the Royal Historical Manuscripts Commission (Доклады Королевской комиссии исторических рукописных материалов при Национальном архиве).
P.R.O. = The Public Record Office, London (Государственный архив, Лондон).
S.P. = State Papers (Государственные документы).[1]
При цитировании старинных документов и писем, оригинальный текст сохранён по мере необходимости. Письма Мальборо и Сары, включённые в тело повествования, даются в современном правописании, грамматике и пунктуации для удобства читателя. Но архаичные слог и выражения сохранены; местами оставлены характерные слова и правописание.
Документы до сих пор не публиковавшиеся отмечены звёздочкой (*). В случае, когда неопубликованные письма от Мальборо и к Мальборо хранятся в Бленхейме, дальнейших об этом упоминаний не даётся.
Курсив авторский, иное отмечается.
В схемах, если не указано иное, крепости, занятые союзниками отмечены чёрными звёздами, французами - белыми звёздами.
Датировки.
До 1752 года, даты в Англии и на Континенте разнились из-за задержки со вводом реформированного календаря Григория XIII. Датирование, употреблявшееся в Англии, известно как Старый стиль, заграницей - как Новый стиль. Например, 1 января 1601 (с.с.) соответствует 11 января 1601 (н.с.), а 1 января 1701 (с.с.) - 12 января 1701 (н.с.). Я использую тот метод, что события, произошедшие в Англии и документы, написанные в Англии, датируются по старому стилю, а заграничные события - по новому стилю. Для морских сражений и в некоторых иных случаях для лучшего понимания, даются даты по обоим стилям.
Для того времени, было в обыкновении - по крайней мере, в английских правительственных документах - начинать год с Благовещения, 25 марта. Там, где мы говорим о 1 января 1700, они говорили о 1 января 1699 и так далее, вплоть до 25 марта, когда начинался 1700 год. Здесь благодатная почва для ошибок. В этой книге, все даты между 1 января и 25 марта приведены в соответствии с современной практикой.
Оглавление
Глава первая. Дом в Аше. 1644-61
Глава вторая. Жовиальные времена. 1661-69
Глава третья. Барбара. 1667 71.
Глава четвёртая. Европа при Карле II. 1667-72
Глава пятая. Под ружьём. 1672-73.
Глава шестая. Администрация Денби. 1673-1674.
Глава восьмая. Женитьба. 1676-78.
Глава девятая. Господин и слуга. 1678-1679.
Глава десятая. Незримый разлом. 1679-82.
Глава одиннадцатая. Принцесса Анна. 1679-85
Глава двенадцатая. Седжмур. 1685.
Глава тринадцатая. Королевский заговор. 1685-1687.
Глава четырнадцатая. Национальный контрзаговор. 1685-88.
Глава пятнадцатая. Драгонады. 1678-1688.
Глава шестнадцатая. Протестантский ветер. 1688, осень.
Глава семнадцатая. Вторжение. 1688, ноябрь.
Глава восемнадцатая. Революция. 1688, ноябрь.
Глава девятнадцатая. Мальборо и Вильгельм. 1688-90.
Глава двадцатая. Двоемыслие. 1690-91.
Глава двадцать первая. Мемуары короля Иакова.
Глава двадцать вторая. Иллюзии якобитов.
Глава двадцать третья. Семейная ссора. 1691-92
Глава двадцать четвёртая. Тауэр. 1692-93.
Глава двадцать пятая. Камаретское письмо. 1694.
Глава двадцать шестая. Залив Камаре. 1694
Глава двадцать седьмая. Процесс Фенвика. 1694-1697.
Глава двадцать восьмая. Скупость и обаяние.
Глава двадцать девятая. Мир и согласие. 1696-98
Глава тридцатая. Мальборо в политике. 1698-1700
Глава тридцать первая. Испанское наследство. 1698-1701.
Глава тридцать вторая. Великий союз. 1701-2
II. Некоторые наставления историкам, к началу работы над историей герцога Мальборо.
III. Инструкции Вильгельма III к дипломатической миссии графа Мальборо (1701).
Если отранжировать всех успешных военачальников по тому, как часто улыбалась им судьба - пишет Кризи - Джон Черчилль, герцог Мальборо займёт одно из последних мест. Не сомневаюсь, что так и есть; интересно выстроить историю случаев, выпукло характерных вопиющим контрастом между славой и значением его деяний в сопоставлении с весьма скромным следом признания, оставшимся в памяти его сограждан. Он в продолжение десяти кампаний командовал действиями армий Европы против Франции. Он отыграл четыре великих сражения, исполнил множество важных военных дел. Все говорящие в его пользу с гордостью отмечают то, что, начав битву, он всегда выигрывал её; и начав осаду, всегда брал крепость. Среди всех случайностей и обескураживающих военных происшествий, он приходил к победе с едва ли ни механистической предопределённостью. В той или иной степени, он неизменно добивался такого результата, даже тогда, когда воевал в стреноженном и опутанном состоянии, на поводу и под гнётом влияний, исходящих из отстранённых от военной ситуации сфер. Военные анналы не знают ничего подобного. Его малые кампании увенчаны таким же успехом. Он никогда не уходил с поля иначе, чем победителем. Он ушёл с войны непобеждённым: и армии, выведенные из-под его направляющей руки, немедленно постигла беда. Дальнейшие поколения не откажутся поминать его имя вместе с Ганнибалом и Цезарем.
Вплоть до пришествия Наполеона, ни один военачальник не получал такой широкой власти в Европе. Персона Мальборо стала центром, вокруг которого объединились около двадцати союзнических государств. Его дипломатия наравне с его победами удерживала Великий Союз от распада. Он собрал, удержал под контролем, и пустил в дело три четверти всей Европы. Он держал в соображении военные действия на всех театрах, один лишь его авторитет мог обеспечить надёжные планы и согласованные действия. Он двигал войну на море с не худшим успехом, нежели на суше, он установил господство Британии на Средиземном море, длящееся до наших дней. Он умел видеть через океаны: владения Британии в Новом Свете и Азии стали начаты или укреплены его достижениями в континентальной политике. В течение шести лет он был не только главнокомандующим Альянса, но, оставшись подданным, фактическим хозяином Англии. Он, во главе самого славного правительства в нашей истории, вёл Европу, спасал Австрийскую империю, безвозвратно рушил непомерную мощь Франции. Уния с Шотландией стала всего лишь одним из многих событий того времени: периода, когда наша страна свершила величайший в своей истории рывок к мировому первенству и славе.
В 1688 году Европа обнажила мечи в военном соперничестве, затянувшемся, при одной неспокойной передышке, более чем на четверть столетия. Подобной мировой войны не случалось со времени противостояния Рима и Карфагена. Воевали все цивилизованные народы; война распространилась по всем исследованным на то время областям земного шара, утвердив на некоторый период или навсегда распределение мировых богатств и могущества, установив границы едва ли ни каждого европейского государства. Другим наследием стали поделенные между участниками новые заокеанские территории. По мере хода схватки, война высасывала из народов жизненную энергию так же - хотя, конечно, не с той же научно рассчитанной тщательностью - как Великая война, через которую прошли мы сами. Несомненно, есть и иные примечательные сходства между тем временем и началом двадцатого столетия. И тогда, и недавно опасность коренилась в том, что превосходство одной расы и культуры могло быть навязано всем другим силой оружия. Мы видим такие же бессилие Европы без британской помощи; медленный, но неотвратимый поворот Англии на призыв, к решительному вмешательству; такой же огромный подъём и развитие британских усилий по ходу борьбы.
Войнами Вильгельма и Анны двигали не лишь национальные амбиции при желании территориальных приобретений. В своей особенности, это была борьба за жизнь и свободу не только Англии, но протестантской Европы. Победоносный меч Мальборо подвёл прочное основание под конституционные и парламентские структуры нашей страны, дошедшие до нас в почти неизменившемся виде. Он сохранил то лучшее, что осталось от дел жизни Оливера Кромвеля и Вильгельма III, придав этому лучшему прочный, законченный вид. Ни один мировой конфликт не привёл, если судить по современным стандартам, к таким же жизненно нужным, насущным итогам. Ни в одном ином конфликте претензии, отстаиваемые британским народом, не были столь же непререкаемыми и справедливыми. Никакой иной конфликт не окончился со столь же прочным, ценным, неоспоримым результатом. Триумф Франции Людовика XIV привёл бы к искорёженному и ограниченному развитию тех свобод, коими мы наслаждаемся теперь, к последствиям худшим, нежели всевластье Наполеона или германского кайзера.
Мальборо обыкновенно приписывают поведение, диктуемое стяжательскими желаниями; говорят об его переметчивости, о службе нашим и вашим. Несомненно, он покинул короля Иакова, и враждовал с королём Вильгельмом. Но если отстраниться от его отношений с этими суверенами, кто стали центрами яростнейших в нашей истории конституционных и религиозных конвульсий, и в чьих окружениях все частные привязанности не имели силы перед делами государства, поведение его отличается непререкаемым постоянством. Пятьдесят лет супружества в нежной любви к супруге, Саре; тридцать лет - с 1682 по 1712 - бессменной и верной службы принцессе, затем королеве: вот ключевые особенности его жизни. Главные его дружеские и политические связи устояли во всех напряжениях и внезапностях жестоких времён, когда всё было зыбко, всё опасно. На протяжении десяти лет он работал в прочных и доверительных отношениях с Галифаксом, Шрусбери, Расселом, и Легге. Годольфин сорок лет оставался его близким другом и союзником. Узы эти порвала лишь смерть. Великий его период отмечен тем же неизменным постоянством. Десять лет войны, со всеми опасностями, головоломками, испытаниями и искушениями лишь укрепили боевое братство с принцем Евгением - соратничество, небывалое между иными воителями равной славы. Ни трения и досады в Великом Союзе, ни нескончаемые сложности в отношениях Англии и Голландии, не потревожили подобного соратничества между ним и пенсионарием Гейнзиусом. Во всех кампаниях Мальборо начальником его штаба бессменно оставался Кадоган, Кардоннел - секретарём; оба делили с ним и торжества и - в конце - несчастья.
И всё же слава, пусть и неохотно, воссияла над государственным мужем и воином, чьи усилия избавили наш остров и всю Европу от беды, и завершились с замечательным результатом для всего христианского мира. Долгая череда самых знаменитых писателей, творивших на английском языке, осыпали его имя неистощимым потоком упрёков и нападок. Свифт, Поуп, Теккерей и Маколей в свойственном каждому стиле соревновались между собой в том, чей портрет станет отвратительнее для потомства. Макферсон и Далримпл скармливали им ложные или лживые факты.
Ни одна из двух исторически сложившихся в Британии партий не была заинтересована в защите дел, свершённых Мальборо для нации. Каждая насмешка, непременно злобная; каждая история, непременно мелочная; каждое обвинение, непременно постыдное, стали обращены против него. Он, при жизни, удерживал молчание, предпочитая не оставлять после себя ни объяснений, ни извинений, одно лишь своё потомство. Так или иначе, но на имени его взросла литература обширнее всего, что писалось когда-либо о военном командире, не бывшем одновременно сувереном. О нём и его жене Саре написаны сотни историй и биографий. Многие из них носят характер злой враждебности, иные преисполнены слепого обожания и тем не имеют силы. Очень и очень многие труды, заслуживающие одобрения, остались без читательского внимания. И лишь в самые недавние времена, авторы, сочетающие научный исторический подход с литературным слогом, глубину с доходчивостью, добились успеха в борьбе с двухсотлетним предубеждением.
Я попытался дать нынешнему поколению вразумительный образ Джона Черчилля, взявшись за такую задачу с чувством глубокой ответственности. Многие из его защитников выказали величайшие способности и великую учёность; но голоса их не возвысились над престижем и искусством противников Мальборо. В последние месяцы своей жизни, Маколей нашёл, что поколеблен в самой фактической основе своих трудов, в своём методе, в своей предвзятости изумительным, но неизвестным Паджетом; и нашёл в себе достаточно упорства для того, чтобы с презрением отмахнуться от проработанных с великим тщанием замечаний, аналитических контраргументов. Потомки, так решил Маколей, станут читать то, что он написал сам. А его критики, пусть он и отвернулся от них, станут скоро забыты. Возможно, это и так. Но у времени долгая память.
Я сомневался в том, начинать ли эту работу. Но два самых одарённых человека из всех, кого я знал, строго настояли на этом. Лорд Бальфур, человек тонкого и обширного ума, невозмутимый, пытливый, требовательный, настаивал на том с неотразимым энтузиазмом. Лорд Розбери сказал: Конечно, вы должны писать о герцоге Джоне [так он всегда называл его]: он был потрясающим парнем. Я сказал, что начиная с детских лет, прочёл о нём всё, что мог отыскать, но рассказ Маколея о предательстве им брестской экспедиции остался для меня неодолимым препятствием. Старый, сгорбленный государственный человек поднялся из-за обеденного стола и пошёл - с великим трудом, но к точно знаемой цели - по коридорам Дарденса в должный уголок своей обширной библиотеки, где покоилось Паджетово Расследование. Это - сказал он, снимая ни разу не переиздававшийся труд - это ответ Маколею.
По мнению наших современников, Паджет убедителен в защите обвиняемого по делу Письма залива Камаре. Но как будет показано на дальнейших страницах, сам я не удовлетворён его защитой. Паджет, по-сути, доказал, что приписанное Мальборо письмо, выдавшее якобитскому двору брестскую экспедицию, могло быть написано лишь после того, как Мальборо узнал о том, что экспедиция уже предана, а значит и не причиняло вреда. Мои же собственные исследования убедили меня в том, что документ, выдаваемый за письмо, сфабрикован и что такого письма в действительности не существовало. Аргументы в пользу такого мнения заняли около четырёх глав этого тома. Я вступаю в бой, утверждая это. Я уверен, что якобитские бумаги, хранящиеся в Скотс Колледже в Париже - величайшая в истории подделка. Это всего лишь доклады секретной службе от якобитских агентов и шпионов в Англии. Поразительно, как очень многие и именитые авторы решительно использовали их для очернения не одного Мальборо, но целого поколения политиков и воинов Вильгельма и Анны, двинувших Англию к мировому первенству, как никто другие до них и после них. Я вижу здесь аберрацию исторического метода.
Изображение и представление о человеке лучше формировать правдивым рассказом о нём в тех обстоятельствах и обстановке, с которыми он должен был совладать, и которые в свою очередь определили его натуру. Я постарался развернуть ленту английской истории в царствования Карла II, Иакова II, Вильгельма и Марии, Анны. Вообразим эту ленту: полосу одинаковой ширины на всём протяжении. И по ней идёт алая полоска жизни Джона Черчилля. В первом томе мы будем следовать этой полоске с трудностями, наталкиваясь на частые обрывы. Но полоса эта постепенно ширится, и со временем, однажды, на один счастливый период, вполне накрывает ленту исторического пути нашей страны, распространяясь вклинениями и по истории Европы. Затем полоска снова сужается - неумолимые время и возраст точат человеческие силы. А лента истории как и прежде развёртывается пред нами.
Мне, в силу разных причин, представилась возможность выставить на публичное рассмотрение дело Мальборо, дабы снискать для него лучшие почёт и справедливость у граждан его собственной страны. В своей работе я буду вынужден - прежде, чем дойду до великого периода его жизни - пройти, и совсем не поверхностно, трудные для него годы, встретив на этом пути множество насмешек, клевет, тяжких обвинений. Суд выкажет внимание; мне не откажут в праве быть выслушанным. Надеюсь, что смогу вызвать эту великую тень из прошлого, и не только предоставить ему защиту, но сделать его живым, близким для современников человеком. Надеюсь показать, что он не лишь один из многих ведущих воителей Англии, но стоит в первом ряду государственных мужей нашей истории; и он был не только Титаном, что, собственно говоря, неоспоримо, но добродетельным и благожелательным человеком, кто замечательно послужил своему веку и своей стране, кто смог внести в хаос гармонию и план; и если бы он получил должные полномочия не с запозданием и в лучшей полноте, он смог бы сделать мир своего времени более упорядоченным и терпимым, поспособствовав тем будущему.
Мой кузен, носящий теперь титул герцога Мальборо, предоставил в моё распоряжение бумаги Бленхейма. Граф Спенсер и многие другие хранители сокровищ прошлого оказали мне наилучшее содействие. Всем им я выражаю признательность; также профессору Тревельяну, который может счесть некоторые сентенции, написанные мною о Маколее, неблагодарным опровержением собственных его попыток к восстановлению исторической справедливости[2]. Но истина дороже - таково моё искреннее мнение. Я обрёл многое в беседах с мистером Кейтом Фейлингом, высочайшим авторитетом среди специалистов по истории того периода. Я весьма обязан мистеру Эшли, кто в последние четыре года сопровождал меня в исследованиях оригинальных рукописей Бленхейма и Элтопа, также и в Париже, Вене и Лондоне, постоянно помогая мне в чтении и проверке текстов. Его умения, знания, проницательность позволили обнаружить многие ошибки и открыть некоторые новые факты, не попавшие в существующие жизнеописания Мальборо. Мы старались проверять все документы и аутентичность источников; тем не менее, знание наше ограничено, и мы смиренно ждём поправок или возражений от сообщества учёных и критиков.
Уинстон Спенсер Черчилль,
Чартвел, Уэстерхем, август 1933.
Замечание к первому тому в новой редакции.
За выходом первого тома, последовало самое тщательное его изучение не одними лишь признанными специалистами, но самым широким кругом читающей публики. Я приятно удивлён, что при великом множестве представленных фактов, обнаружено так мало ошибок. Ошибки эти, по большей части, носят технический характер, касаются названий полков, титулований, ссылок и указателя. Ни одна из них ни в какой степени не затрагивает аргументации или предметов особого значения. Специального упоминания требуют лишь два замечания.
Я ошибся, назвав Иезуитским Скотс Колледж в Париже. Такое определение, судя по всему, проникло в текст из мастерского анализа рукописей Карта, опубликованного в The English Historical Review от апреля 1897 достопочтенным Артуром Парнелем, подполковником Королевских инженеров. Название это совершенно неточно и грешит пристрастием.
Профессор Тревельян предложил исправление, опровергая то, что миссис Менли можно называть свидетельницей Маколея и то, что Маколей не цитировал целые пассажи книги, приписываемой её авторству, то есть Новой Атлантиды. Я основывался на недавно переизданном Расследовании Паджета.
Маколей, несомненно, читал Новую Атлантиду. В том, что касается любви и женитьбы Мальборо, у него единый взгляд с миссис Менли; он никогда не ссылается на Менли или Новую Атлантиду, как на источник, при совершенно определённых оттуда цитатах; но он, что вполне возможно, мог черпать свои клеветы и из иных грязных публикаций того времени. При всём уважении, я не могу поступиться долгом и обойти в своей книге то, как лорд Маколей трактует Мальборо.
Выражаю благодарность всем, кто написал мне отклики об этом томе.
Разумеется, малые ошибки, указанные выше, в первом абзаце, исправлены в настоящем издании.
Уинстон Спенсер Черчилль,
август 1934.
![Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, Джон Клостерман (так считается), около 1685-1690 (деталь) [Предоставлено Национальной портретной галереей, Лондон.]](/img/b/bobe_s_l/marlborough_vol1/marlborough_vol1-1.png)
Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, Джон Клостерман (так считается), около 1685-1690 (деталь), предоставлено Национальной портретной галереей, Лондон.
В январе 1644 года девонширская леди Элинор (или Элен), вдова сэра Джона Дрейка, обратилась за помощью к Круглоголовым: роялисты активно заявили о себе в восточных графствах и встревоженная женщина просила разместить гарнизон в своём доме, в Аше, что возле Аксминстера.[3] Леди была на хорошем счету у парламента, помогала республиканцам деньгами, продовольствием и воодушевила арендаторов в семи по соседству приходах пристать к парламентскому делу. Войска подошли, но, не успев укрепиться, стали выбиты оказавшимся поблизости лордом Пулетом, командиром короля: тот, со своими ирландцами, оттеснил парламентских, сжёг дом и обобрал верную леди до нитки, так, что она, полунагая и босая, бежала в Лайм, сумев вымолить обувь лишь по дороге.
Затем ей выпали тяжёлые испытания. Очень скоро город Лайм Реджис, порт Круглоголовых, осадили роялисты. В первых числах апреля принц Мориц с шестью тысячами людей и превосходной артиллерией обложил город осадой. Упорная оборона осталась примечательным эпизодом истории гражданской войны. Почти три месяца на убогих бастионах и во рвах городской защиты шла безыскусная, судорожная и яростная схватка. Женщины побуждали гарнизон к упорству, подменяли солдат в ночных бдениях, носили на позиции порох и ядра. Обороной командовал полковник Блейк, ставший впоследствии знаменитым адмиралом республики. Несколько раз он предлагал роялистам открыть брешь в осадных парапетах и сразиться лицом к лицу, на фронте шириной в десять-двадцать человек. Талантливое командование вкупе с двадцатью шестью горячими проповедями красноречивого пуританского пастора удержали в осаждённых храбрый дух. Город зависел от припасов, возимых морским путём, и некоторое время леди Дрейк отчаянно терзалась, глядя с мятущимися, как мы полагаем, чувствами, в сторону моря. Помимо прочих бед, роялистским флотом командовал внук её сестры, Джеймс Лей, третий герцог Мальборо[4]. Ходили упорные слухи, что этот грозный родственник Элинор вышел от Нормандского архипелага, и идёт к городу с подкреплениями для неприятельской стороны. Но он так и не пришёл. Морем правил парламент. В виду города появлялись только корабли Круглоголовых. Три месяца госпожа Дрейк жила в нужде, среди обстрелов и пожаров. Нужда заставила её зарабатывать на хлеб прядением шерсти, вязанием чулок; она бедствовала до снятия осады с Лайма деблокирующей пуританской армией графа Эссекса, подошедшей от Лондона; а потом уехала из города и отправилась в парламент[5].
Джон, сын Элинор, не мог помочь матери в несчастье. Нам говорят, что он был предан королю и не ладил с матерью-пуританкой[6]. Это, вернее всего, несправедливое утверждение. Наоборот в дни осады сам Джон был в плену, в руках принца Морица, и именно его мать леди Дрейк боролась за освобождение сына. Хлопотала об освобождении Джона и графиня Мальборо - сестра Элинор - занимавшая видное среди роялистов положение. Дело почти сладилось, но тут парламентские войска вышли к Аксминстеру, и молодой Дрейк опрометчиво пообещал сжечь дом лорда Пулета в отместку за сожжённый Аш; никакого освобождения, естественно, не состоялось.
Стойкий пуританизм леди Дрейк не мешал ей обращаться к обеим сторонам роялисты высоко ставили её сестру, графиню Мальборо; парламентские политические заслуги самой Элинор. Двадцать восьмого сентября 1644 года парламент распорядился, что, будучи совершенно разорена противником, она должна получить жильё в Лондоне безо всякой арендной платы, с выплатой 100 фунтов сразу и по пяти еженедельно. Через четыре дня, комиссары Вестминстера подобрали и дом жильё сэра Томаса Рейнела, господина роялистских принципов, кто не сложил оружия; и Элинор жила на пожалованных квартирах около четырёх лет, подкладывая жалобы с просьбами о компенсации в медленные жернова Вестминстера. В 1646 году сэр Томас помирился с парламентом и согласился на компромисс - то есть, на выкуп своего дома. Вернувшийся хозяин потребовал отремонтировать дом, на что имел все права, и жаловался, что леди Дрейк за время найма жилища вскрыла полы, и раскопала землю в поисках клада. Жиличка пренебрегла этими притязаниями, и не съехала, оборонившись процессом против лорда Пулета за сожжение Аша; она имела достаточное влияние, и неуступчивые парламентарии сдались весной 1648, присудив ей 1500 фунтов компенсации из пулетова имущества.
Чтобы получить судебное решение, Элинор понадобились четыре года. Ещё два года ушли на изъятие собственно денег у ответчика и леди, де-факто, стала на этот срок лицом, управляющим его доходами. В июле 1650 она жаловалась парламенту, что за Пулетом остался долг в 600 фунтов. Назначили дополнительное, тщательное расследование. Через шесть лет после сожжения Аша с причинением ущерба в 6000 фунтов - по заявлению домовладелицы - ей удалось получить компенсацию в 1500 фунтов. И она нуждалась в этих деньгах в каждом пенни. Война разорвала её семью. Сын леди Дрейк воевал за парламент; сын дочери, Уинстон Черчилль, дрался за короля он и его отец подняли оружие в защиту трона с первых дней войны. И оба, каждый в свой черёд, отец за сыном, попали в парламентские когти[7]. В бумагах Постоянного комитета Дорсетшира, разбиравшего дела местных роялистов, есть протокол от апреля 1646 года - дело Джона Черчилля: тот, ответчик, юрист, пользуется некоторой известностью; проживает в Вуттон Гланвиллсе что у Шерборна; заявляет, что действительно был королевским комиссаром, но потом, в ноябре 1645 года принял Национальный Ковенант[8] и Присягу Отрицания.[9] Уплатил 300 фунтов на содержание парламентского гарнизона в Уэймуте, и ещё 100 фунтов аванса за собственное поместье. Помимо этого, пишут комитетские, ему уже шестьдесят, к переездам неспособен. В августе 1646 года, комитет, с учётом всех обстоятельств, остановился на штрафе в 440 фунтов, а через месяц снял секвестр с поместья.
Расчёт республики с сыном несколько задержался[10]. Сэр Уинстон поступил в королевскую армию в двадцать два года, и отличился в некоторых сражениях. Молодой человек дослужился до капитана кавалерии, выказал достойное поведение при Лансдаун-хилле, Раундвей-дауне, и показал себя стойким, фанатичным приверженцие короны. В конце 1645 года Уинстон-младший получил ранение, так что жизнь его среди Круглоголовых, победоносных теперь в Дорсете и Девоне, стала чрезвычайно тревожной. Но он сумел укрыться в краю врагов. Дом его отца в Вуттон Гланвиллсе ненамного отстоял от Аша день пути в седле; а женат был Уинстон на Элизабет третьей дочери леди Дрейк.
Никто до сих пор не сумел дать точной даты их бракосочетания, даже выяснить, случилась ли женитьба после или во время гражданской войны. Но записи Канцлерского суда говорят о том, что в октябре 1649 года Уинстон и жена его, Элизабет, подали иск на Генри Розвела одного из душеприказчиков сэра Джона Дрейка требуя передать Элизабет причитающуюся часть наследства, так как истице исполнился двадцать один год. Из указанного дела выясняется, что сэр Джон Дрейк умер в октябре 1636 года, что Элизабет исполнился двадцать один год в феврале 1644, и что она вышла замуж в мае того же года.[11] Мы знаем, что по акту раздела семейного имущества, заключённому между отцом Уинстона и леди Дрейк, за Элизабет дали 1500 фунтов приданного. А так как Джон Дрейк имел самое малое четырёх дочерей, каждая из которых получила одинаковый земельный капитал - помимо угодий, отошедших вдове и сыну, Дрейки, очевидно, были состоятельным семейством.
Примечательно, как жили супруги в подобных семьях, в союзах, разделённых кровавыми обстоятельствами гражданских войн. Мы можем угадать намёк на гнетущие условия того времени в той примете, что первый ребёнок Уинстона - Арабелла, речь о которой впереди - родилась лишь в 1649 году, то есть через пять с лишним лет после свадьбы; но после, вслед за первенцем, дети в семье Уинстона появлялись на свет чуть ли ни ежегодно. Должно быть, супруги терпели от превратностей войны и, пока не утихли схватки в западных графствах, не могли надолго остаться вместе. Возможно, что Элизабет прожила у матери всю войну, и что Уинстон сумел соединиться с женой лишь в начале 1646 года. Так или иначе, но именно с этого срока молодые люди, супруги вопреки всем движениям военных фронтов, затаились в руинах Аша, надеясь остаться незамеченными и ненаказанными до установления более мягких порядков.
На какое-то время им это удалось. Но правительство выстроило систему регулярного наушничества; не помогли ни связи Уинстона с Круглоголовыми, ни влияние и заслуги леди Дрейк Уинстон попал под обвинение. В конце 1649 года бывший капитан королевской армии встал перед Постоянным комитетом. Судя по дорсетширским протоколам, свидетели, корыстные, но надёжные, сообщили, что ответчик вышел на поле против парламента в декабре 1645, а может быть и раньше; что он был ранен в руку, сражаясь под началом полковника Стара; что он сопротивлялся до последнего, воюя в составе королевского гарнизона в Бристоле. Факты были неоспоримы.
Однако, невзирая на все революции и войны, жернова закона не давали огреха. Побитые враги остались при своих правах кроме прав, отнятых особыми указами парламента. И наш преступный капитан нашёл опору в законе. Он принялся высуживать долги, полагавшиеся ему, как кредитору. Он заявил, что тысяча марок покойного сэра Джона Дрейка, полученные им при свадьбе, в приданое Элизабет, не могут быть секвестированы. Он трудился, оттягивая день окончательного решения по своему делу. И дело затянулось надолго. В августе 1650 года терпение парламентских судей лопнуло. Некоторые тяжбы говорят протоколы затеяны ответчиками с одной только целью оттяжки времени. Так, например, Уинстон Черчилль, судя по его распоряжениям, ложно заявляет, что его отец (Джон Черчилль) и леди Элинор Дрейк имеют интерес в собственном его состоянии и, в то же самое время, возбуждает иск против полковника Уильяма Фрая и сэра Генри Роузвеля от собственного имени, в интересах одной своей жены, никак не предполагая отсуживать долю иных лиц в указанной задолженности. Что касается действий обвиняемого с оружием в руках, он, кажется, не настолько отошёл от своих принципов, чтобы отказаться от них.
Так или иначе, но Комиссия по урегулированиям вынесла решение лишь 29 апреля 1651 года, и решение это гласило:
* Уинстон Черчилль из Вуттон Гланвиллса что в графстве Дорсетшир, джент. Должен по преступлениям своим уплатить взыскание в сумме четыреста и восемьдесят фунтов; из коих четыреста и сорок шесть фунтов и восемнадцать шиллингов должны быть выплачены казначейству в Гоулдсмитс-Холле, а тридцать три фунта два шиллинга уже получены нашим казначеем мистером Доусоном от сэра Генри Розвела как часть его долга Джону Черчиллю, отцу указанного Уинстона, поскольку нам было разрешено взять эти деньги в частичное погашение указанных четыреста и восьмидесяти фунтов[12].
Пути документа, пущенного по волнам истории, неисповедимы. В Истории Дорсета Хатчинса, опубликованной в 1774 году, опечатка превратила вышеуказанные 446 фунтов 18 шиллингов в 4446 фунтов 18 шиллингов. Когда бы дело обстояло так, взыскание составило бы примечательно небывалую сумму - примерно 18 000 фунтов в современном эквиваленте - для деревенского джентльмена с невеликими средствами. Долгая череда историков - Кокс (1819), Уолсли (1894), Бейли (1910), Аткинсон (1921) и Эдвардс (1926) - не только переписывали эту ошибочную и смехотворную цифру, но основывали на ней рассуждения, восхитительные в безукоризненно-логической строгости. Историки выводили из этой цифры крайнюю неприязнь парламентских к Уинстону - на деле, при сведении счётов, незначительную его персону чудом не упустили из виду. При вере в ложную цифру, между наказаниями, наложенными на отца и на сына - на деле почти идентичными - усматривается разительная разница, и Уинстону приписывалось несоразмерное его положению участие в войнах. Так рождаются легенды.
Тем не менее, наказание стало жестоким для человека с годовым доходом едва ли дотягивавшим до 160 фунтов[13]. Уинстон выплатил штраф к концу 1651 года, но не стал заводить собственного дома. Равно, он не поселился у отца, в Вуттон Гланвиллсе - возможно, не только по причине оскудения семьи. Около 1643 года его отец женился вторично[14] и отношения Уинстона с мачехой, очевидно, не задались он предпочёл обратиться за помощью к тёще. Во всех западных графствах как благовестили победители торжествовали суд Божий да милость Божья, но леди Дрейк роптала в сторону выигравшей стороны из своих руин, и Аш оставался спасением от скудости если не от нищеты для битого Кавалера с молодой женой и растущим потомством. Он не вернулся в отчий дом до смерти отца, что случилась за год до реставрации. Итак, семья Уинстона осталась в Аше на тринадцать лет и годы эти кажутся тяжкими. Они жили в гостях и из милости тёщи: женщины властной, тяжёлой, скупой; семейный выводок в скудном, разрушенном войною жилье; гости и хозяйка в раздорах, навязанных обстоятельствами времени.
Мы не располагаем письменными свидетельствами о повседневной жизни в дрейковых владениях. Но жизнь эта затянулась надолго а значит, узы родства и насущных необходимостей устояли перед острыми противоречиями, эмоциональными и партийными. Леди Дрейк не уклонялась от материнского долга. Она обувала, одевала и ютила семью дочери в том, что щедротами фанатиков-единоверцев осталось от ашского поместья. А Черчилли, не имевшие ничего своего, пользовались её милостью. Пока леди Дрейк, упирая на верность властям, тягалась за компенсации в парламенте, Уинстон убегал от взысканий с её помощью, по обоюдному сговору. Товарищество в беде упрочило семейные скрепы так, должно быть, и произошло с ними, потерпевшими кораблекрушение, в совместной, долгой работе над спасением всего, что только можно было спасти. Но и без умозрительных предположений, жили они, по меньшей мере, странно и нелёгко. Мы можем судить о стеснённых средствах Дрейков и Черчиллей по примечательному факту: вплоть до реставрации, никто не пытался перекрыть новою кровлей выгоревшую часть дома. Все эти годы домочадцы ютились в одном уцелевшем крыле. Война разорила западный край дотла, так что обитателям Аша пришлось экономить на всём, чтобы учить детей и поддерживать достоинства знатности.
Черчилль отдыхал от многодетной семьи и частых, долгих тяжб за чтением и геральдическими штудиями, оставив нашим дням многие, по большей части неразрезанные экземпляры солидной и учёной книжки - Divi Britannici. Автор прослеживает принцип, за который воевал и терпел, то есть Божественное Право Королей с 2855 года от сотворения и далее, до дней ему современных, зайдя в своей доктрине так далеко, что смутились и роялисты - Черчилль пишет о праве короны назначать налоги по одному усмотрению суверена. Цитировать эту книгу[15] значит говорить с её автором через столетия. В посвящении Карлу II он убедительно говорит о Кромвеле как
Диаволе... кто, безусловно, вознамерился совершить над вашей Священной Персоной расправу столь же Зверскую, какую учинил прежде над Отцом вашим; но ваши Ангелы Хранители, как те, кто спасли Лота от Содомитов, навсегда захлопнули пред ним Дверь Власти и разрушили его Амбиции, побудив к Восстанию прежних деятелей Мятежа.
Он пишет о происхождении шотландцев:
Скотты, как то полагают, Ветвь древнего Скифского Племени, они так же выделяются среди многих прочих, как их античные Предки, кого, как и их, все без исключения Народы честили в древности за Варварство; они, как и те грубые Скифы, всегда склонны терзать своих соседей Некоторые думают, что они пошли от беглецов из Германии; иные из Скандинавии; третьи говорят, что они отщепенцы нечистокровных Испанцев, коим не разрешили жить в Ирландии; а есть ещё небезосновательное предположение, что они Смесь всех указанных народностей.
Он прочно пристал к теории, что все народы получили имена от своей пищи, платья, наружности, привычек и т.п. Так, по его размышлению, название бритт произошло от напитка, названного греками брутон или брутейон; Афанасий определяет его как ton krithinon onion то есть Vinum hordeaceum, ячменное вино. Он рассуждает о ячменном вине:
Цезарь утверждает, что все Народы знаемого Мира пьют лишь Вино или Воду; но Британцы, говорит он, (хотя и выращивают достаточно виноградной лозы) используют её лишь для Беседок в Садах и украшения фасадов, а пьют напиток ароматный и крепкий, отличный от всего, что делают из Ячменя и Воды другие Народы; напиток этот не отличается коварством Вина, хотя и горячит так же; он более питательный, и тем оставляет человеку довольно времени для многих славных Дел, прежде чем полностью истощится Дух.
Весьма обоснованная - до определённой степени - доктрина.
Писания Уинстона о казни короля выказывают силу его политических пристрастий и энергический слог.
По-видимому, Свершившееся положило конец не лишь Судьбе нашего Короля, но всему счастию нашего Королевства. Ибо с его Смертью порвался Покров Святилища и Церковь пала. Всеобщая Тьма простёрлась над Государством, и задержалась не лишь на двенадцать часов, но на двенадцать лет. Два великих Светила, Закон и Евангелие, оделись мраком. Некому было писать на местах судей; некому читать с мест Епископов. Общественный порядок опёрся на Войну, на Разнузданность Постящихся и Богомольных. Простолюдины потеряли Имущество, Джентри Свободу, Вельможи Честь, Священники расстались с Авторитетом и Почтением. Усилия Правительства потекли по свеженарезанным Каналам, и воды в них были мелки и бурливы. И новые Государственные Мужи, кто встали у руля, выдумали новые Орудия, чтобы уловлять в свои Сети всех Рыб; одни стали погублены Секвестром, другие Компромиссами, некоторые Десятиной или Опалой. Короче говоря, случилось так (когда дело зашло уже слишком далеко), что всё Королевство страдало от его страданий более его самого, когда он, такой покорный и пред лицом смерти; он, павший ниже насмешек, поднялся над Завистью Врагов, и, силою их Злобы, стяжал Венец лучше короны, отобранной у него.
В предисловии к Divi Britannici - Черчилль не публиковал его до 1657 года - есть посвящение, а в нём слова, сила и достоинство которых служат этой книге оправданием. Автор пишет, что начал труд когда все думали, что монархия опочила и похоронена в могиле с нашим отцом-мучеником, и ни у кого из нас, служивших блаженному государю, не осталось иного оружия, кроме пера, чтобы доказать всю искренность монархического рвения.
После появления на свет Арабеллы (28 февраля 1649 года), рождения и смерти в семействе Черчиллей пошли быстрой чередой, с чуть ли ни ежегодной регулярностью. У мистера Уинстона было двенадцать детей, семеро умерли в раннем детстве. Герой этой книги - третий ребёнок из двенадцати, старший из выживших мальчиков. Забавно, что никто из предыдущих и очень многих биографов - не смог обнаружить крестильной записи. Упущение это обернулось загадкой, и многие авторы решали её окольными методами. Часто встречаются и неверные трактовки[16]. Поэтому я привожу здесь факсимильное свидетельство, взятое из приходской метрической книги, церковь св. Михаила, Масбери.

Джон, сын мистера Уинстона Черчилля, родился в 26 день мая 1650 года
Можно предположить, что первые десять лет его жизни прошли в тяжёлых условиях. Здесь мы вынуждены ограничиваться догадками. Немногие факты туманны; мы, впрочем, вправе полагать, что ребёнок рос в доме, где желания зачастую пресекались, а наказание непременно следовало за проявлением чувства и выражением мнения. Дела общественные как-то двигались, и обитатели Аша взирали на их ход с разных позиций как люди, разделённые глубоким и живейшим антагонизмом. Пролитая кровь, жестокая несправедливость легли между теми, кто собирались за одним столом. Поруганная вера, переломанные судьбы, отчаявшееся верноподданничество противостояли решительному и ликующему бунтарству, при том, что обе стороны оказались связаны узами теснейшей взаимозависимости. Невозможно предположить, что дети никак не чувствовали разлома между старшими; что они не видели негодования с одной стороны, не находили покровительства у другой; что они никогда не слышали слов о том, что хлебу своему они обязаны лишь мудростью бабки, верной защитницы парламентского дела. А пламенный Кавалер, занятый во цвете лет своими книгами по истории и геральдике? Тот, кто угрюмо посматривал на победы лорда-протектора над голландцами, испанцами; на восхождение Англии к великому во всём мире положению усилиями этого архигрешника? Тот, кто мечтал о дне, когда король вступит в должные права, наградит роялистов, честно и строго воздаст цареубийцам? Неужто такой человек ни словом не открыл маленькому сыну всю горечь своей души? Мальчик вполне мог усвоить взгляды родителя, научиться глядеть на мир его глазами, желать вместе с отцом скорейшего падения теперешних спесивых правителей, и, одновременно шести, семи, восьми лет отроду понять, как не полезно размахивать таковыми мнениями перед половиной семьи, пред теми, с кем он жил под одной крышей.
Подобный опыт мог укоренить в детском уме два превалирующих памятования: во-первых, ненависть к нищете и зависимости; во-вторых, скрытность в тех мыслях и чувствах пред теми, кому они покажутся отвратительными. Единомыслие с одной частью семейства, лицемерное общение с другой: вот прививка, полученная Джоном сызмальства. Тогда, должно быть, и зародилось сокровенное его желание уйти от подобострастия, вызванного скудостью, к уверенной независимости, приходящей с деньгами; тогда пришло знание, как полезно иметь знакомых, поддерживать отношения с обоими лагерями общественного противостояния. Современное, ширящееся мнение говорит о влиянии раннего опыта на становление личности. Определённо, на всю биографию Джона Черчилля лёг отпечаток его детства и отрочества. Подумаем об его непререкаемой сдержанности за покровом приятных и любезных манер; о беспрестанном общении, личном и письменном с оппонентами; о копеечной бережливости; о скромности свойствах, не таявших в тепле фортуны и изобилия; о ненависти к любому проявлению транжирства и неразумия каждое из этих качеств растёт из скудных ашских годов.
Можно предположить, что сам Уинстон Черчилль заботился о начальном образовании детей, не считаясь со временем. Жизнь подготовила его к такой работе. Он, как показывают собственные его писания, накопил солидный запас исторических знаний. В ашские годы Черчилль оказался в курьёзном положении: капитан кавалерии, отстранённый от военных занятий, вынужденный к затворничеству и книгокопательству. Он, вероятно, прозябал в тяжком безделье, не имея ни имущества, чтобы им управлять, ни профессии, чтобы найти ей применение. Средств на путешествия не было; но уроки с детьми вполне могли предоставить вынужденному затворнику и занятие и утешение. Или, что тоже возможно, он мог и попросту слоняться в одиноких размышлениях, оставив детей играть на тропках и в садах тихого деревенского края. Мы сумели найти единственные сведения о начальном образовании Джона в труде неизвестного автора: Жизнь двух знаменитых генералов (1713).
Он родился в годы Великого Мятежа, у Отца, принявшего сторону Королевской Партии против Узурпаторов, кто, восторжествовав, подвергли его родителя жестокому Гнёту наравне с прочими сторонниками Короля. Но, вопреки Оскудению, Разграблению, всяким бесчестным Действиям и Жестоким Законам - ежедневному обыкновению распущенной Солдатни - его любящие Родители предприняли Всевозможное, чтобы дать сыну Свободное и Благородное Образование. И он, едва сойдя с рук Кормилицы, стал принят опальным Священником, кто дал ему первые Понятия о Религии, удобрив почву для лучшего укоренения Ростков Литературы, и внушил, вместе со Знанием Всемогущества Господня, верное Понимание Удела Человеческого.
Многие современные биографы Мальборо утверждают, что здесь упомянут Ричард Фаррант, приходский священник соседней деревни Масбери. Кажется, впрочем, что названный Фаррант не был наказанным роялистом, но, наоборот, правоверным пуританином, в чьи руки Уинстон вряд ли отдал бы своего сына[17].
Уверяют, что великие люди выходят по большей части из неблагополучных семей. Очень возможно, что именно ранние годы Джона Черчилля прошедшие под тяжким гнётом обстоятельств, в болях несчастий, под уколами насмешек и пренебрежения, воспитали в нём беспощадную цепкость и неизменное здравомыслие качества, без которых не закончить ни одного большого дела. Окружение мальчика было скупо на свободу и щедро на принуждение; и он, постепенно приноравливаясь к такой среде, мало-помалу загорался внутренним пламенем воинственным, опасным.
Уинстон Черчилль, помимо занятий сыновним образованием, обдумывал в досужих штудиях собственную родословную и регалии. Его генеалогические исследования предоставляют настолько хороший материал о родословной самих Черчиллей, что лучшего не приходится и желать[18]. Он отследил своего Вздыбленного Льва, Серебряного, на Чёрном щите до Отто де Леона, кастеляна Жизорского, кого мы называем нашим общим предком. У названого Отто были двое сыновей, Ричард и Уондрилл, лорд Курсельский, чей младший сын приехал в Англию с Вильгельмом Завоевателем. Добросовестно перечислив несколько поколений, Уинстон переходит к надёжному праотцу: Джон... лорду Каричилль, или по иным записям Чайрчиль, названный после Сомерсетским Черчиллем, чей сын, сэр Бартоломью де Черчилль человек большой известности во времена короля Стефана[19] ... оборонял замок Бристоу от королевы Матильды, и был в той войне убит. В правление Эдуарда I, после баронских войн, манор Черчиллей стал отобран короной и передан какому-то фавориту, кто длил потомство и обладание поместьем примерно до Генриха VIII, его правления. В 1652 году, манор, пройдя через руки семьи Дженнингсов - подробности о них воспоследуют - стал куплен сэром Джоном Черчиллем, в то время начальником судебных архивов, и должен был отойти моему сыну по правам его супруги, когда бы не стал столь несчастливо отчуждён её отцом.
Всё это превосходно; однако, когда мы, спускаясь по этим цепочкам, добираемся до Джона, предка теперешних Черчиллей из Манстона, и Роджера, кто совокупно с дочерью Певерелла, вдовою Николаса Меггса - произвели на свет Меттью, а тот стал отцом Джаспера, моего деда, - мы попадаем в полосу тумана. Эдвард Харли беззастенчиво утверждает, что прадед Джона Черчилля был кузнецом, и работал в семье Меггсов[20], что - ввиду того, что пра-пра-пра-дед Джона Черчилля определённо женился на миссис Меггс - видится обстоятельством весьма подозрительным и даже тревожным. Как бы то ни было, у нас есть основательная причина для уверенности в том, что дедушка Джона изрядно прибавил к фортуне своей ветки Черчиллей. Он был практикующий адвокат, заместитель архивариуса Канцлерского суда и член Миддл Темпль; а законники в то время были преуспевающим классом[21]. И он стал роднить Черчиллей с аристократией - сначала сам, женившись на девушке семейства Уинстонов[22], затем устроив таким же образом судьбу своего старшего сына. При всех генеалогических таблицах работы Уинстона, Дрейки были куда известнее и основательнее Черчиллей последние, в одном только Дорсетшире, проросли множеством ответвлений, самых разномастных, нисходя, порой в совершенное простолюдинство - в то время, как семья Джона Дрейка дала прямую нисходящую линию в восемь поколений, от отцов к сыновьям, и все они звались Джонами, вплоть до Бернарда Дрейка, кто заслужил добрую славу при дворе королевы Елизаветы и получил в наследство угодья в Масбери - владение, что оставалось за Дрейками с пятнадцатого столетия. Бернард Дрейк был крепкий мужчина: однажды он напал с кулаками на родственника, прославленного сэра Френсиса Дрейка, за то, что тот осмелился поместить на свой герб дракона с крыльями, противозаконно позаимствовав этот символ, дракона-виверна, с герба Бернарда. Тогда королева Елизавета пожаловала сэру Френсису герб с таким же драконом - только этот виверн болтался головою вниз в корабельных снастях - и спросила сэра Бернарда: как ему это нравится? Тот ответил, отчасти безрассудно: Мадам, в вашей власти дать ему герб покрасивее моего, но вы никак не сможете дать ему герб древнее моего[23]. Итак, брак с Элизабет, дочерью леди Дрейк, выгодно сказался на общественном положении Уинстона, а позже, в пору гражданской войны обернулся для Черчиллей истинным спасением, как то известно читателю.
Помимо сказанного, юный Джон нёс в себе ток иной наследственности, кровь людей необычных и распутных. Отцом его бабки, леди Дрейк, был Джон, лорд Ботелер, муж сестры Джорджа Вильерса, герцога Бакингема, фаворита Иакова I и Карла I. Некоторые специалисты в учёных досугах проследили за всем нисходящим в поколениях потомством Джорджа Вильерса, отца Бакингема, обнаружив, что между этими людьми попадаются знаменитейшие и самые безнравственные персонажи нашей истории - попадаются и воспроизводятся, столетие за столетием, фавориты, женского и мужеского пола, любимцы и любимицы королей и королев с отличительными признаками - порочностью и гениальностью - и мы находим эти приметы в Чатаме, и Питте, и самом Мальборо.
Когда после всего, в конце жизни, Сара, герцогиня Мальборо, читала - с большим запозданием, ведь книгу эту скрывали от неё - Ледьярдову историю герцога, она написала один комментарий - он звучит так, словно сказан сегодня, нашим современником: Историк с великим Старанием потщился снабдить герцога Мальборо древнейшей родословной. Не имею никакого понятия, правда ли это; но, по моему мнению, вовсе неважно, есть ли в том правда или нет. Потому что я никого не ценю за чужие заслуги[24].
Но как бы то ни было, дальнейшие исследователи наследственности по мере сил потрудились над этим фамильным древом. Гальтон приводит его в ряду главных примеров, на коих покоится один из его тезисов[25]. В наше время и сам Уинстон Черчилль числится в первых рядах знатных и плодовитых родоначальников. Когда бы он прожил полный жизненный срок, то увидал бы сына победителем при Рамильи; затем, через неполный год, узнал бы о триумфе внука, сына дочери, при Альмансе - и современники отличали бы самого Уинстона как прародителя двух величайших полководцев столетия, как деда и отца двух командующих двумя враждующими армиями: британской и франко-испанской. Более того, третий из выживших сыновей Уинстона, Чарльз, стал выдающимся военным человеком, а сын-моряк фактически руководил Адмиралтейством в военные годы. Капитан в гражданскую, исследователь геральдики и истории, сторонник Божественного Права произвёл на свет породу с сильными и отчётливыми военными качествами. И посыл этот идёт не от его пера, но из его крови.
В первой, вводной главе, мы перенесли читателя в стародавние времена и, одновременно, рассказали о первых одиннадцати годах жизни нашего героя. Теперь дом в Аше уходит с наших страниц - так и не дождавшись новой кровли. Лорд Уолсли с живейшим чувством бродил по останкам и окрестностям ашской обители, и виды эти возбудили в нём, храбром и опытном офицере воспоминания о славе Англии. Где ещё - восклицал он
можно проникнуться таким жгучим, таким национальным чувством, как не здесь, в месте, где родился, и провёл детские годы один из величайших наших сограждан; и никакие записи о его деяниях не заменят визита в эти края! Неряшливый сельский дом, с запущенным [теперь] садом и заросшими рыбоводными прудами, где резвился маленький мальчик - бедный, плохо одетый; и всё здесь воскрешает память о нём - нет, о его славе, о славе Англии! - куда живее, нежели в Бленхеймском дворце, или в прогулках по знаменитой позиции возле деревни Хёхштадт на берегу Дуная. Вид этих мест, сам здешний воздух, навевают воспоминания о великом человеке, кто сделал здесь первый вздох[26].
Но этот край, сцена вступительного действия промелькнёт перед нами в некоторых, любопытных эпизодах дальнейшей истории Джона Черчилля. Именно здесь, на земле детства, в 1685 году, он чуть ли ни разглядит родной дом, командуя Королевскими конногвардейцами, что шли против армии Монмута; а спустя три года, поблизости, на холме за рекой встретит принца Оранского, убежав от Иакова II. Немало для Аша!
***
Затем и вдруг пришли перемены. Оливер Кромвель умер. Генерал Монк заявил о свободном парламенте, и пошёл с войсками из Колдстрима в Хаунслоу. Карл-изгнанник выпустил Бредскую декларацию. Английский народ, во внезапном и почти едином порыве, скинул двойное ярмо военного и пуританского закона. И вот, гонимый прежде суверен торит обратный путь между костров и рукоплесканий возбуждённой толпы; наступает сильная реакция, когда вся нация буйствует, и каждый буйствует, судорожно кидаясь от гнетущей добродетели к бескрайней вседозволенности. 23 апреля 1661 года Карл II коронуется в Вестминстере, увенчав себя и реставрацию английской монархии.
Громкие события скоро откликнулись в Аше. Неблагонадёжный для диктаторского правительства Уинстон Черчилль стал в одночасье фаворитом, верным слугою короля. Многолетняя зима отступила и Кавалеры, выбравшись из убежищ, бродили под весенним солнцем, разыскивая утраченное имущество. Не станем завидовать Черчиллю, дождавшемуся погожих дней. Он действовал с неколебимой верой и преданностью. Он испил до дна чашу поражения и покорности. Это заметно по беспокойным его глазам. Теперь пришло время награды. Черчилль тотчас занялся многими делами. В 1661 году он прошёл в парламент от Уэймута, а в 1664 году вошёл в Королевское общество, став одним из первых его членов. Фортуна воздала ему скудно, но он получил независимый доход, и вернул собственный очаг. Куда важнее, Черчилль устоял на скромном, но должном уровне дворцового фавора. Его принимали при дворе с почётом, даже интимностью. Карл не мог раздавать богатств своим оскудевшим адептам его вернули на трон на определённых условиях. Власть его покоилась на компромиссе между роялистами и повстанцами, между англиканами и пресвитерианами, между захватчиками имущества и теми, кто потерял его; между страстными подателями противоречивых претензий и гордыми полками недавними противниками. Он зачастую не мог удовлетворить просителей, отчаявшихся в неуклонной добродетели; тем более насытить алчных, чьи притязания неумеренно выросли за долгое время обид, не говоря уже о попытках вульгарного вымогательства.
Бёрнет пишет о рассвете того времени:
Теперь это стадо Кавалеров сияет от счастья и храбрится за чашами; были они весьма посредственными полководцами и воинами, но теперь хвастаются, что убивали врагов тысячами, все преисполнены гордости и не стесняются в претензиях.
Примечательно, впрочем, иное то, что служба и заслуги Уинстона Черчилля стали замечены и отмечены, что он не затерялся в приёмных Уайтхола, в толпах злых и зачастую достойных просителей. Он получил больше многих. Нашёлся способ удовлетворить его дешёвый, верный, хорошо известный: Черчилль получил собственный герб[27] необычное дело для подобной семьи но эта награда ответила его геральдическим пристрастиям[28]. Но мог ли он залатать прорехи кошелька и кожи этим свидетельством монарших чувств? нет; такого благоволения - по собственным словам Уинстона - было совсем недостаточно. Обласканный и неутешенный, он пребывал при новом гербе выкорчеванном дубе с девизом понизу: Fiel Pero Desdichado (Верный, но неудачливый) - впрочем, как выяснится в следующей главе, жизнь приготовила ему блага посущественнее.
Теперь читателю придётся смириться с неизбежной и раздражительной интерлюдией. Нам нужно проследить за удачами и невзгодами семнадцатилетней девушки и младшего её брата по мере вступления обоих в свет беспутный королевский двор. Король награждал не лишь славою, но источал все виды мирских благодатей и удовольствий. Единственный путь к удовлетворению самых умеренных и заслуженных амбиций вёл к королю, требовал оказаться накоротке с королевской семьёй и фаворитами. Подавляющая доля всех благ и почестей королевства сосредоточилась в узком кружке королевских родичей, друзей, свойственников, ключевых министров, доверенных коронных лиц. Отличия и продвижения по службе, за редкими исключениями, добывались на путях фавора. Офицер, прочно устроившийся при дворе и тот, кто располагал лишь шпагой и доблестью, были офицерами разного сорта. Те же можно сказать о юристах и священнослужителях. Королевский свет падал у трона, и попавшие в эти лучи не боялись уже конкурентов или завистников кроме некоторых, стоявших в том же круге королевского света.
Указанные обстоятельства правили мужчинами, но влияние слабого пола приобрело стократную силу. За чьим-то порогом, у чьей-то подножной скамеечки таился вход в элегантный, претенциозный, суетящийся мирок - в свет королевского благоволения, в очарованный круг, к придворным дамам, королеве или принцессам. Пожилой администратор и прелат; бойкий, пылкий, привлекательный юноша; старый генерал, молодой лейтенант все приходили с некоторыми дарами, ища милости у королевских возлюбленных, шли к любовницам королевских родственников, к их друзьям или слугам. Для полноты картины добавим, что раздача привилегий и милостей драпировалась соображениями об интересах растущего государства, благообразилась привлечением честных, достойных персонажей и строгих матрон, кто привносили в дело дух серьёзного, респектабельного предприятия. Естествоиспытатели, философы, теологи, знатоки гуманитарных наук; мэры городов, суровые морские капитаны, полковники-ветераны, солидные торговцы все работали локтями, проталкиваясь в первые ряды, в надежде поймать хотя бы беглый лучик королевской эманации.
Подобное мировоззрение чуждо современным народам, говорящим по-английски. И у нас, и в Соединённых Штатах, мы едва ли потерпим, чтобы персона королевской крови или просто богатый человек не были бы, пусть вынужденным, но примером поведения. Британская аристократия в большинстве своём стала уже достоянием истории; но миллионеры-финансисты, боксёры-чемпионы, кинозвёзды, люди новейшего высшего общества, кто наслаждаются привилегиями, и схожи тем с выдающимися персонами семнадцатого и восемнадцатого столетий - все они обречены на образцовый образ жизни. Но обернувшись ко временам Карла II и Людовика XIV, мы найдём господство подобного духа и в Англии и во Франции, не говоря уже о варварском мире. Отношения полов легко переходили в неприкрытую, зачастую бессовестную коммерцию. Мужчины и женщины, получив власть, становились корыстны и кичливы с теми, кого посвящали себе в услужение. Подношения брали даже судьи иногда; и законодатели часто. Генералы и адмиралы постоянно ревновали друг друга, и, временами, пускались в интриги ради служебного продвижения. Великие писатели, памфлетисты, труженики недавно родившегося, примитивного журнализма, записывали гадкие слухи, чтобы ублажить покровителей и нанимателей. Нравы светлой и счастливой современности ушли далеко от тех давних и прискорбных дней - и нам приходится напрячь воображение, чтобы понять прежних людей. Мы, прочно стоящие на чистоте и чести, отдраенные добела всеобщим избирательным правом, можем оправдывать, и даже прощать пороки и слабости ушедших поколений, никак не компрометируя себя таким родством.
И всё же такая система год за годом производила доблестных воителей и способных государственных работников, делая это куда успешнее нашего общества, с его широкой образованностью, соревнованием достоинств, демократическим способом правления. Помимо деятелей церкви и науки, в лидеры могли выйти люди родовитые, либо богатые деньгами или землёй. И в этом маленьком круге нескольких тысяч семей шло жестокое соперничанье: люди и роды выясняли, кто чего стоит. В них сосредоточилась нация, равные судили равных, зная друг о друге всё, всю подноготную. Возможно, брутальная максима лорда Фишера: Секрет эффективности в фаворитизме скорее истина, чем парадокс. Примем во внимание ещё одно обстоятельство того времени страна остро нуждалась в способных людях. При назначениях и продвижениях выбор падал на фаворитов, но фаворитами становились по заслугам.
Двор Карла II не был восточным, кромешно-раболепным устроением, где женщины не имеют прав, а мужчины приближаются к владыкам, затаив дыхание. В нём не было и сверхцентрализации французского двора при Людовике XIV. Знать, родовитая и богатая, могла жить в своих поместьях, отказавшись от почёта государственных должностей, и всё же оставаться при правах весьма действенных и часто обращаемых против короны. В Англии во все времена сосуществовали независимые силы, и их соперничество лишь укрепляло центральную власть. Положение, родовитость, способности имели вес, и приносили стране весомую пользу. Высший свет, жестоко критикуемый, но общепризнанно первенствующий, потакал всякому капризу, любой суетности и был средоточием национального блеска на вершине монархии.
Важно понять, что чувства и воззрения мужчин и женщин тех времён разнятся с нашими. Религия занимала важное даже доминирующее место в умах людей семнадцатого века. Сегодня это место занято спортом. Одной из первейших их забот была загробная жизнь и путь к спасению. Невежественные по нашим меркам, все они превосходно знали Библию и требник; круг их чтения ограничивался несколькими книгами, но книги эти читали тщательно, основательно продумывая прочитанное. Мнения их покоились на главных догматах веры, и, зачастую, они умирали и страдали во имя таких идей.
На втором после религии месте стоял почёт к чину и происхождению. Каждый при дворе или в провинции был на виду, все знали о нём всё. Пращуры, родовые линии были предметом тщательного изучения. Семьи дотошно и ревниво вглядывались в гербовый щит соседей, меряясь многовековыми деяниями. В те времена попасть в ряд сильных мира сего без подобающего родства было сложным делом. Между знатными и простыми, поперёк дороги к высшему положению лежала отчётливая межа, и новый талант мог перейти её, лишь послужив Закону или Церкви. Несомненно, что религия и генеалогия аккумулировали тогда большинство эмоций, присущих сегодня национализму. Реформация разорвала дом Христа, но западные страны не разошлись, скрепленные настроением космополитического единства в образованных классах общества.
Не стоит думать, что наши предки были столь же беспечны, и так же безразличны к международной политике, как это в обыкновении в обширных политических демократиях нынешнего столетия. Если бы их, как сегодня нас, поглощали и увлекали бы малозначительные повседневные хлопоты; если бы их умы разменивались на суету, спорт, удовольствия, наживу, они никогда бы не сумели решиться на те роковые и вполне осознанные предприятия, что, в конечном счёте, спасли Англию. Многие, основательные граждане с твёрдым положением в обществе глубоко мыслили, и решительно действовали в том, что касалось современной им политики и вопросов веры. И пусть правители Англии не усвоили отточенной и жёсткой французской эффективности: они сплачивались в монолитное целое перед значимыми опасностями. В государстве появилась отчётливая, пусть и рудиментарная функция будущего Форин-офиса. И на каждую из важных нужд правления работали люди без чинов, кто формулировали доктрины и политический курс в рассуждениях непреходящей ценности. Они двигали дело приватными, тщательно выстроенными письмами, где было взвешено каждое слово и разговорами редкими, нечастыми, но с важными последствиями. Правление было делом королей и малочисленной, но основательной группы руководителей людей не всегда праведных, людей ошибавшихся, подчас недальновидных, но с живым и упорным вниманием к своей задаче.
В те дни общество было неотзывчиво к узникам и казням; ужасные наказания исполнялись самым пунктуальным образом. Но это был век Боли. Боль принимали накоротке, как знакомого врага. Обезболивающих средств не существовало, и больные в госпиталях мучились, словно узники в пыточных камерах. Всем приходилось терпеть; страдание как это ни странно могло выпасть любому. Но всё же, в чём то, наши предшественники были гуманнее нас. Конечно, они дрались на дуэлях из-за женщин и чести вместо обращения в суды; мы, разумеется, заметно отстали от них по числу смертных приговоров; но предки наши ужаснулись бы от совокупного крика десятков тысяч жертв, что гибнут ежегодно под автомобилями, а современный мир к этому безучастен. Они сохранили незамутнённую способность изумляться и негодовать сегодня чувства эти притуплены ежеутренними и ежевечерними списками жестокостей и несчастий, что приносят нам газеты и электрический телеграф. Наконец, они никуда не спешили. Они меньше говорили, у них было больше времени для досуга и размышлений; они находили утешение в дружбе скорее, нежели в путешествиях. У них было меньше способов тратить жизнь по мелочам. В общем, мы говорим о примитивном народе и должны принимать во внимание ограничения того времени. Одна черта объединяет их с двадцатым веком любовь к деньгам, респект и зависть к удачливым денежным мешкам. Однако и как правило, деньги в тот век добывались от земли, а землевладение обыкновенно шло от древности рода.
***
Конвенционный парламент[29] Реставрации был распущен в 1660 году, а в мае 1661 начал заседать новый, Кавалерский или Пенсионный парламент. Это было сборище похотливых юнцов, выбранных рассерженными людьми в пику пуританам, чьи строгости вызывали тогда отвращение. Коммонеры происходили из лояльных семей, были по большей части очень молоды и когда об этом намекнули королю, тот ответил: не беда, они станут заседать, пока не обрастут бородами[30]. Так и случилось: парламент этот засиделся на восемнадцать лет. Уинстон Черчилль представлял в нём округ Веймут. В первые две сессии он выказывал усердие работал в разных комитетах и, уже 10 мая 1662 года, пришёл к Лордам, как представитель Общин, чтобы пригласить верхнюю палату в объединённый комитет, собранный для обсуждения билля об армии.[31]
Между тем, в Ирландии, урегулирование реставрационных претензий шло с большими заминками.[32] Тридцатого ноября 1660 года, король издал декларацию, постановив, что земли, попавшие до мая 1659 года во владение кромвелевых выгодоприобретателей должны у них и остаться; что протестантам-роялистам и невинным римокатоликам причитается восстановление в правах собственности или компенсация; что церковные земли должны быть возвращены; но часть их пойдёт в награду некоторым особо упомянутым персонам за их прошлые отличия при защите королевского дела. В Ирландию, чтобы привести королевский статут в действие, стали назначены тридцать шесть специальных уполномоченных: они открыли офис в Дублине в мае 1661 года. Уполномоченные комиссары проработали год, но - то ли из-за противоречивости самого королевского акта, то ли, как жаловались ирландцы, по причине личных выгод - смогли удовлетворить всего одну претензию, поданную некоторой вдовой. В апреле 1662, в преддверии вотирования в ирландском парламенте Билля об устроении Ирландии, куда вошла и вышеуказанная декларация, офис уполномоченных стал закрыт. Король объявил комиссарам личное неудовольствие за неспособность дать ход делу, и, отобрав семь новых, послал их в Ирландию налаживать с чистого листа работу Претензионного суда. Его величество - писал лорд-канцлер Кларендон:
выбрал семь джентльменов с кристально чистой репутацией; один из них знаменитый адвокат, кого Он сделал судьёю после возвращения оттуда; двое иных, законники, пользующиеся повсеместным уважением; и ещё четыре джентльмена отменного происхождения, превосходных способностей, безо всяких сомнений в их честности, с общеизвестной репутацией людей, не льстящихся ни на какие искушения.[33]
Среди последних четырёх стал назван и Уинстон Черчилль: он не попал в число первых тридцати шести; он не имел никакого интереса в ирландских землях. Должно быть, он получил почётное назначение влиянием сэра Генри Беннета, кто вскоре стал лордом Арлингтоном и государственным секретарём; в прошлом, именно он, патрон Черчилля, представил Уинстона двору и Уайтхолу.[34] Возможно, Уинстон отбыл в Ирландию для исполнения новых обязанностей в июле, так как выписанный ему ордер на перевозку лошадей и имущества датирован 19 июля 1662 года[35]. Он взял с собой семью, жена поехала с ребёнком. Новое ирландское дело не обещало ему ни дохода, ни почёта. Он - по собственному опыту прошлого десятилетия - слишком хорошо узнал все беспросветные особенности процесса перераспределения секвестированных земель. День за днём оборванные вельможи и обездоленные землевладельцы испрашивали уполномоченных о способах к возвращению бывших угодий, предъявляя свидетельства прошлого верноподданичества изнурённому трибуналу. Но распределять было нечего; и уж совсем нечем вознаграждать.
Тем временем, юный Джон пошёл на время в Дублинскую среднюю бесплатную школу. Лорд Уолсли предполагает, что мальчик, наблюдая за процедурами Претензионного суда, усвоил из этого безотрадного спектакля как, зачастую, презренна верность и с какой успешной наглостью вознаграждают себя мятеж и предательство - пусть даже и после реставрации. Но это чистой воды домысел. Юноша, судя по всем свидетельствам, отличался красотой и обходительностью; в нём стали отмечать силу и пылкость; и юноша этот рос и мужал. Горькие годы в Аше сделали своё дело, воспитав в нём силу духа. При всех радостных переменах, случившихся с семьёй после возвращения короля; ввиду событий и зрелищ реставрации; в обстановке ирландского убожества, он, почти наверняка, оставался внимательным, вдумчивым, непременно проницательным и, должно быть, мудрым не по летам наблюдателем. И мы не думаем, что внешние события тех дней сыграли определяющую роль в формировании его уже не детского характера. Личность Джона сложилась, и основой его характера стала непреклонная твёрдость - иногда в гармонии, но чаще в неприятии окружающей действительности.
Весь 1663 год Черчилль сотоварищами-уполномоченными оставался в Ирландии. Задача оказалась трудной. 25 марта комиссионеры писали в Уайтхол, утверждая, что:
С самого начала работы в королевстве мы испытали множество препон от тех, чья безопасность и чьи имущественные компенсации были и остаются главным предметом наших забот, и стали весьма удручены этим... Но теперь, после самых милостивых к нам писем вашего благословенного величества, мы обрели новое дыхание, поняв, что король видит, и отдаёт справедливость всем страданиям нашим и всей невиновности нашей.[36]
И всё же, в декабре, Черчилль попросил у Арлингтона отпуск домой, хотя бы на пару месяцев[37], для необходимого отдыха. Судя по всему, просьбу удовлетворили через месяц, так как король позволил Уинстону вернуться в Англию 10 января 1664 года[38], а через двенадцать дней наградил труды Черчилля рыцарским званием.[39] В этот день, и никак не раньше - если Уинстон, как это можно предположить, ездил в Дублин со старшим сыном - Джон Черчилль стал одним из 153-х учащихся в школе св. Павла. Отец купил дом в Сити; там и поселился четырнадцатилетний школьник,[40] но 13 сентября 1664 года Черчилля назначили аудитором-подканцеляристом в конторе гофмаршала[41], то есть на маленький пост при королевском дворе, и сэр Уинстон переехал в Уайтхол.
Современных записей об учении Джона в школе св. Павла не сохранилось[42]. На поверку, свидетельства эти погибли в Великом пожаре 1666 года. Но ректор Колитона, преп. Джордж Норт, оставил запись на 483-й странице своего экземпляра книги Колета, Жизнь рыцаря, против ссылки на трактат Вегеция О военном деле: означенный экземпляр книги Колета долгое время хранился в Бодлеанской библиотеке, и находится теперь в школе св. Павла. Запись Норта:
Именно из этой книги [Вегеция пр. перев] Джон Черчилль, ученик нашей школы, впоследствии знаменитый герцог Мальборо познавал начала военного искусства; он часто читал эту книгу - так рассказал мне, Джорджу Норту, в день св. Павла 1724/5 один старый священник а тот, по его словам, учился в одно время с Черчиллем и вёл с ним тесное знакомство. О чём и свидетельствую. Дж. Норт.[43]
Некоторые из биографов Мальборо пытались оценить значение этого свидетельства, буде оно неложно. С одной стороны сомнительно, чтобы в те дни познания Джона в латыни позволили бы ему извлечь какую-то выгоду из военных принципов, представленных у Вегеция; и уж совсем сомнительна польза этих принципов в военном деле восемнадцатого века. Сторонники иной точки зрения зачастую воображают, что наш герой сумел извлечь солнечные лучи современного знания из этого античного огурца путём некоторого оккультного ясновидения.
Около 1665 года герцогиня Йоркская в знак особой милости изволила предложить старшей дочери Уинстона, Арабелле, почётное, вожделенное назначение. Историки, занятые этим вопросом, удивляются: как строгий и верный муж, любящий отец, богобоязненный Кавалерангликанин позволил обожаемой дочери войти в общество со многими дурными соблазнами. На деле, он и его жена стали очарованы предложением герцогини, и все уважаемые друзья Уинстона и его супруги поспешили поздравить семью с благоприятным, счастливым случаем. Кто мог усомниться в качестве блага, что шло от королевского брата, наследника трона? Санкция Божественного права нисходила на всё окружение суверена и, равным образом, распространялась среди священного общества особ королевской крови. Власть, известность, богатство, отличия ждали тех, кто снискал королевское благоволение. Войти в такой случай было делом почётным и чистым, а при любом несчастье, участливые Церковь и Государство умели скрыть или оправдать грех. Итак, по общему мнению, молодая девица, получив замечательную выгоду, должна была войти в придворный круг и ловить там удачу.
Прошло несколько времени, и Арабелла преуспела при дворе герцога Йоркского. Энтони Гамильтон, знаменитый автор мемуаров Граммона, написал несколько озорных страниц, от которых, вольно или невольно, не в силах отвернуться ни один историк.[44] Это рассказ о парфорсной охоте у Йорка; о понёсшей лошади под Арабеллой; об упавшей, распростёртой на траве наезднице; о герцоге королевской фамилии, кто поспешил на помощь и о любви, рождённой в этом инциденте. Гамильтон пишет, что лицо Арабеллы было обыкновенным, в лучшем случае миловидным, но фигура ослепительной, и что Джеймса воспламенил вид таковой красоты в бедственном положении и полураздетом виде. Так это было или иначе, но нам с определённостью известно, что Арабелла стала любовницей герцога Йоркского незадолго до наступления 1668 года, и в следующие семь лет родила ему четверых детей; один из них, Джеймс-Фитцджеймс, стал герцогом Бервикским, маршалом Франции, победителем при Альмансе. Последние факты неоспоримы и историки могут полагаться на них с полной уверенностью.
Среди многих тёмных пятен, портящих послужной список Джона Черчилля, стоит обвинение в том, что он принял бесчестие сестры или честь для неё, по нравам того времени, с лёгкой душой и даже с удовлетворением. Почему в нём, пусть и совсем юном человеке, не заговорил тогда характер будущего завоевателя и водителя людей? Почему он не ринулся в Уайтхол к высокому соблазнителю с картелью а то и с палкой? Зачем не выручил оступившуюся девицу из тягостного положения? Мы подтверждаем бесплодность всех попыток отыскать активный протест Джона в этом эпизоде его биографии. Спустя шестьдесят лет, старая герцогиня Сара, чьи откровенные мнения мы уже цитировали в этой книге, отозвалась о случившемся тогда уклонении от долга в терминах, словно бы взятых из нашей с вами современности. Вот её высказывание из упомянутого выше письма к Давиду Малле о труде Ледьярда:
* Я хочу сделать некоторое дополнение к тому, что успела написать в прилагаемой бумаге, чтобы показать, как сильно ошибается господин Ледьярд, поминая сестру герцога Мальборо с её свитой поклонников. Поскольку все они были при титулах, он, кажется, думает, что это послужило к возвышению Мальборо. Я полагаю совершенно иначе. Потому что здесь внушается, что первое его представление ко двору случилось по причине этой позорной связи, в то время как истинное положение вещей было другим: сестра его служила фрейлиной у Хайд, первой герцогини Йоркской. И у неё были по меньшей мере три бастарда от герцога Йоркского или иных, когда брата ещё пороли в школе за небрежение занятиями Теперь я охотно выслушаю мнение любого здравомыслящего человека о том, как именно герцог Мальборо, тогдашний школьник, мог предотвратить бесчестие своей сестры и почему господин Ледьярд применяет таковые суждения к любимцу короля Иакова.
28 сентября 1665 года король повелел гофмаршальской службе отныне обходиться без услуг сэра Уинстона Черчилля, одного ревизоров при моём дворе, кто назначен уполномоченным для проведения в жизнь закона о лучшем устроении Ирландии.[45] Следующим январём сэр Уинстон возвратился в Дублин, оставив, на этот раз, жену и всё прочее семейство в Англии. К тому времени, старший из сыновей, Джон, расстался со школой, и стал пажом Джеймса, герцога Йоркского. Автор Жизни двух знаменитых генералов рассказывает, что юноша часто бывал при герцогском дворе, и что Джеймса прельстила его красивая наружность. Не исключено, впрочем, что выбору поспособствовал патрон сэра Уинстона, граф Арлингтон. Отец был доволен: он видел в пажестве наилучшее начало карьеры для любого из своих сыновей. Вскоре Арлингтон устроил такое же, если не лучшее место брату Джона Джорджу: в Мадриде, при дворе знаменитого графа Сэндвича, недавнего командующего Королевским флотом. Уинстон, ставший теперь гражданским администратором, благодарил государственного секретаря за оказанную любезность в письме из мрачной Ирландии: хотя (по теперешнему ходу вещей) должность пажа невысока, я ценю выгоду (в обстоятельствах нашего времени) жизни в стране, где мальчики ведут себя как мужи, а мужчины выглядят мудрецами. В завершении письма он выражает надежду, что мои сыновья подписались бы под этим письмом с той же признательностью, какую испытываю теперь я, ваш покорный слуга.[46]
Сэр Уинстон Черчилль остался в Ирландии, при назначенной ему работе в комиссии до 1669 года. Несколько раз он возвращался в Лондон для исполнения парламентских обязанностей; кажется, он стал кем-то вроде курьера между Уайтхолом и другими ирландскими уполномоченными. Насколько умело исполнял свою работу сэр Уинстон? То обстоятельство, что отец его был законником, могло дать Черчиллю некоторый навык в ведении судебных прений; он, кажется, достойно маневрировал в потоке изливаемых на него прошений и контр-прошений. В 1675 году один из корреспондентов Ормонда сообщал, что Черчилль оставил свои бумаги и дела в великом беспорядке.[47] Но службе его сопутствовал следующий, любопытнейший факт: он оказался среди недругов герцога Йоркского. Главным препятствием к скорейшему устроению ирландских дел стала награда, назначенная наследнику престола из ирландских земель, принадлежавших цареубийцам. Нечистоплотные агенты герцога, худшие подручные из всех, кого он мог выбрать, как писал о них герцог Ормонд, подавали претензию за претензией, основываясь на этом пожаловании, действенно пресекая прочие расчёты уполномоченных с людьми бедными и заслуженными. Одним летним утром сэр Уинстон Черчилль вышел из себя, назвав герцоговых агентов стаей мошенников и мерзавцев, кто ежедневно бесчестят своего господина.
Один из помянутых агентов, некоторый капитан Торнхил, пришёл затем к Черчиллю, надеясь поймать того на слове и обвинить в измене. Приведу запись их разговора, что близко и не без приятности знакомит нас с характером Уинстона.
Капитан, объяснив ему всю меру возможных и тяжких последствий за слова, произнесённые в судебном заседании, пожелал узнать, кого он имел в виду под агентами герцога? Тот горячо ответил: Что? Вы пришли бросить мне вызов и запугать? Я имел в виду вас!. Но тот другой ответил: Слова были агенты герцога - так что вы имели в виду не одного лишь меня!. Нет сказал сэр Уинстон, - я говорил о вас и докторе Годжесе и всей вашей шайке. Сэр! спросил Торнхил готовы ли вы собственноручно подписаться под тем утверждением, что я мошенник? Увы! ответил Черчилль - давно ли вы стали так совестливы, что уже не переносите, когда вас называют плутом? Вы должны получить в том моё собственноручное свидетельство - и он попросил слугу принести бумагу и чернила. Возникла задержка; тем временем, капитан всё искушал Черчилля, и спросил его о сэре Джероме [?], главном из агентов герцога. Торнхилл предполагал, что уж эту-то персону оппонент не посмеет честить публично. Да - ответил в запале наш воин, - он главный мошенник и все вы мошенники, а потом указал капитану на лестницу с такой решимостью, что тому пришлось выбирать из двух зол: либо [пойти на попятный] и сбежать по ступеням вниз либо лететь с лестницы кубарем.[48]
Очень вероятно, что сын его, Джон, повёл бы такое дело с большей осмотрительностью. История быстро дошла до Уайтхола. Приехав в Англию, сэр Уинстон встретился с некоторыми трудностями, когда захотел разъяснить дело герцогу и герцогине Йоркским. Ещё 10 марта 1668 года он написал: Я безмерно устал от нескончаемой службы, на которой снискал единственное отличие от герцогини - её мнение обо мне; она излагает герцогу, что я - главный его враг среди всех уполномоченных[49]. Однако, опрометчивое прямодушие не вовсе лишило Черчилля герцогского благоволения.
Между тем, мы очень мало знаем о Джоне тех лет; анналы его отца куда богаче сведениями. Судя по всему, Мальборо последний среди великих воителей прошлого с недокументированными годами ранних лет жизни. Он родился в 1650 году, жил в бабкином доме девять лет, потом поехал с отцом в Дублин, вернулся, поступил в школу св. Павла; шестнадцати лет от роду стал пажом при дворе герцога Йоркского; затем пошёл в армию вот и вся информация. Джон жил какую-то пару веков назад, но сведения о его юности скудны мы знаем примерно столько же о ранних годах Александра Македонского, Ганнибала, или Юлия Цезаря.
Затем, после Мальборо, наступило время многотомных биографий, и мы можем судить о детских годах дальнейших мастеров войны - Фридриха Великого, Вольфа, Клайва, Наполеона, Веллингтона, Ли, Джексона, Гранта, Мольтке, маршалов Фоша и Хейга, генерала Першинга - пользуясь самыми обильными материалами.
Джон стал пажом герцога Йоркского, и вместе с сестрой Арабеллой счастливо обращался в королевском семейном кругу. Обязанности его не были ни почётными, ни неприятными. Он жил без средств, но в комфорте и среди блеска. Он познакомился со всеми знаменитостями и со многими прелестнейшими женщинами английского мира, и все были доброжелательны к привлекательному, рассудительному, милому юноше, кто резво сновал по коридорам и приёмным Уайтхола ловким, решительным шагом, ни разу не оступившись, не поскользнувшись на натёртых полах дворца, где неловкость случайного падения могла стать концом службы. Он должен был встретить при дворе другого королевского пажа, служившего одновременно с ним молодого человека на пять лет старше Джона Сиднея Годольфина. В шестнадцать лет невозможно сойтись с юношей двадцати одного года. Но разница в пять лет разделяет ненадолго. Эти двое станут друзьями и пройдут в нерасторжимом союзе по всёй нашей истории.
Герцог Йоркский был воином: опытным и решительным; искусство войны стояло для него на втором после религии месте. Он занимал должность лорда-адмирала, знал морскую службу, и с равным вниманием занимался и делами армии. Герцог привык устраивать частые смотры и учения. Он регулярно муштровал два батальона гвардии в Гайд-парке, приказывая солдатам отрабатывать военные приёмы, и наблюдал за учениями а с ним наблюдал и паж. Простая операция заряжания и выстрела из мушкета исполнялась в двадцать два разделения. В Англии ещё не прижился кремнёвый замок, так что к засыпке пороха, забиванию пыжа и пули добавлялись установка и воспламенение запала фитилём. Изобретённый к тому времени штык не успел войти в военный обиход. Для отражения удара вражеской кавалерии, на каждых двух мушкетёров полагался для защиты один пикинёр. Королевская гвардия в круглых бобровых шапках и алой форме исполняла сложные ритуалы с величавой неторопливостью. Той же затейливостью отличались и перестроения: разворот фронта в произвольном направлении, построение в колонну или каре с пикинёрами в стальных шлемах по углам. Долгая муштра и дисциплина были некоторым залогом того, что эволюции пройдут без огрехов и сбоев в самые цепенящие сердце минуты, когда кавалерийский шквал вот-вот ударит по пехоте, и та, сделав единственный залп, останется на некоторое время едва ли ни полной беспомощности перед обнажёнными саблями.
Герцог Йоркский, командуя военными учениями в Гайд-парке, замечал в своём паже интерес мальчик смотрел на военный ритуал горящими глазами. И однажды, после очередного военного смотра он спросил юношу, выбрал ли тот себе род занятий. Джон упал перед герцогом на колени и попросил мундир одного из этих прекрасных полков. Просьба стала удовлетворена.[50]
Нас, разумеется, уверяют в том, что молодой Черчилль воспользовался некоторым благорасположением герцога - в силу сестриного бесчестия, и - одновременно, греша противоречием - уверяют, что Джон оказался отныне по гроб жизни обязан наследнику престола. Нет нужды прибегать к таким, весьма натянутым объяснениям обыкновенного, ординарного карьерного движения. Достаточно естественно, что сын верного престолу, хорошо сражавшегося Кавалера был принят при дворе Карла II. В свои юные лета Джон получил ровно те звания и назначения, что причитались любому молодому придворному джентльмену. Стать пажом, потом энсином: в этом не было ни чрезмерного фавора, ни почести превыше достоинств для здорового молодца хорошего рода из частной школы. Подобные, небольшие продвижения вполне вязались с его годами и положением, и с его собственными качествами, подкрепленными в меру должным отцовым патронажем. Нет смысла рыскать в поиске иных объяснений, и нам не стоит вдаваться в кропотливые полемики некоторых авторов, кто с удовольствием распространяются о том, состоялось ли назначение Джона до или после грехопадения Арабеллы с герцогом. Гвардия приобрела хорошего офицера обыкновенным путём.
Помимо сестры, Арабеллы, Джон был в родстве и знакомстве с другой фавориткой высокого полёта. Накануне реставрации, Карл II встретил в Гааге Барбару Вильерс, только что вышедшую за Роджера Палмера, впоследствии графа Каслмейна. Она стала королевской любовницей; она сошла на английский берег прежде Карла; она украсила триумф и стала усладой венценосца в реставрационных ликованиях. Барбара отличалась изумительной красотой, обаянием, безмерными живостью и пылкостью. В следующие шесть лет она родила королю нескольких детей. В двадцать четыре, в зените успеха, этот цветок буйного и заблудшего вильерсового племени стал главным украшением дворца. Она держала Карла в постоянном обаянии. Она буйствовала, чудила, изменяла, всё туже и туже пеленая монарха волшебными тенетами. Она приходилась троюродной племянницей Джону Черчиллю. Сестра матери молодого пажа, миссис Годфри, ходила у Барбары в конфидентках. Джон, как то говорят[51], часто навещал тёткины покои, лакомясь сладостями, вскоре повстречал там Барбару и последняя подружилась с хорошеньким мальчиком. Очень вероятно, что она знала Джона ещё ребёнком. Естественно, Барбара стала ласкова с ним и распространила покров своего могущественного влияния на молодого и бойкого родственника. Естественно, она стала предметом мальчишеского воздыхания. Мы надеемся убедить читателя, что в этой ранней их привязанности не было и тени нечистоты: они жили рядом, обыкновенным образом: женщина с положением и её кузен, мальчик шестнадцати лет, недавно попавший в придворный круг, где первенствовала его дальняя родственница. Итак, уже в те, ранние времена, Барбара стала в жизни Джона фактором всёвозраставшего влияния и мы нисколько с этим не спорим. Бёрнет:[52]
Крах его [Карла] царствования и всех его дел случился главным образом оттого, что он выказал слабость, едва столкнувшись с возможностью предаваться безудержным развлечениям. Одна из породы Вильерсов, кто вышла за Палмера, паписта, ставшего вскоре графом Каслмейн, а затем разлучилась с ним и получила титул герцогини Кливлендской - женщина эта стала первой и самой долгой привязанностью короля, родив ему пять детей. Она отличалась замечательной красотой, но чрезвычайными злобностью и алчностью; глупостью и властолюбием; она причиняла королю всякие беспокойства, постоянно заводя интрижки с другими, одновременно притворяясь, что ревнует короля к другим. Его страсть к ней и причудливое её отношение к нему так обескураживали короля, что он, зачастую, не владел собой и не мог сосредоточиться на делах, что требовали великого внимания в то переломное время.
Спустя сорок с лишним лет (1709) в свет вышла книга Новая Атлантида некоторой миссис Менли - женщины недостойной уважения. Книгу оплатили тори, кто, со всей яростью тогдашних политических страстей, вели в те дни клеветническую кампанию, направленную против Мальборо. Свифт, один из главных руководителей очернительного действа, говорил о Менли как об одном из ремешков, коими я подвязываю шпоры. Новая Атлантида - хроника придворной жизни времён Карла II, скандальная и вульгарная; книга написана в духе Декамерона или мемуаров Казановы, но лишёна тех изящества и блеска, что служат к оправданию этих литературных трудов. Авторша Атлантиды далеко опережает Граммона в непристойности. Имена реальных персон нигде не упомянуты, но прототипы очевидны. Почти каждое дело или назначение объяснены мотивами похоти или подкупа. Вильгельм III оклеветан самым отвратительным образом, показан персоной безнравственной. Мальборо назван графом Фортунатусом и о нём рассказана непотребная история: он, в шестнадцать лет, стал совращён леди Каслмейн и та давала ему обильные взятки, чтобы удерживать при себе. Книга вышла в четырёх небольших томах, получила широкое распространение и выдержала шесть редакций за десять лет от первой публикации. Помимо сквозящего злого умысла, Атлантида испещрена анахронизмами и откровенными ошибками, так что не стала принята всерьёз и той, специфической частью публики, к утехе коей в каждое столетие и издаются подобные писания. Мы бы и вовсе не стали упоминать об этой книжке, когда бы ни лорд Маколей: он, пожелав обрушить и очернить память о Мальборо, воспроизвёл худшие из россказней Атлантиды в своём знаменитом историческом труде. Маколей, разумеется, отказался от писаний миссис Менли в части, касающейся его героя - Вильгельма - отвергнув и её, и прочих низкопробных памфлетистов гневными словами самого праведного накала. Но все забытые клеветы о любви, о женитьбе Мальборо стали востребованы, нашли место на его величавых страницах и разошлись по всему свету.
***
Определённо, Джон преуспевал при дворе и новенький мундир никак не подорвал его фавора. Но пубертатный срок трудное время и для подростка и для его окружения. В те дни, по общему мнению, придворный юноша должен был обязательно пройти армейскую или флотскую службу как джентльмендоброволец. Тем более это касалось свежепроизведённого при дворе офицера. Полк мог предоставить Джону заграничную службу, все друзья и добрые советчики молодого Черчилля сердечно рекомендовали отправиться с армией за море. Джону пришлись по душе и советы и возможная перспектива.
В какой-то из дней 1668 года он оставил двор и отплыл в Танжер. Злоречивые авторы предполагают, что отъезд связан с чрезмерным вниманием к Джону самой герцогини Йоркской; некоторые пишут, что он достаточно подрос для особых отношений с леди Каслмейн. Но нужно ли приплетать какие-то резоны к сказанному выше? Сохранившиеся свидетельства объясняют отъезд и долгую жизнь вдалеке собственными его предпочтениями. Он уехал в Танжер, и, так или иначе, жил на Средиземноморье около трёх лет, потому что любил приключения и потому что удовольствия малой войны стали отдыхом от изысканного, бесконечного дворцового церемониала. Немногие восемнадцатилетние удовлетворяются комфортом и даже ласкательствами. Они ищут телесных упражнений, движения, дружбы с равными в тяжких трудах. Они ищут отличий, не фавора; их влечёт мужественная независимость.
Танжер, свежее приобретение в составе приданого Екатерины Браганцской,[53] был, как то продлилось до наших дней, местом не утихавшей войны с маврами[54]. Общины ненавидели этот город, встречая всякие расходы на него речами, неотличимыми от сегодняшних выпадов по тому же поводу. Король и его советники, морские и военные - несомненное средоточие информированного мнения - усматривали в нём залог будущей английской стратегии и относились к Танжеру куда серьёзнее, нежели к недавно проданному и обильно оплаканному Дюнкерку. Танжер стал не только одним из укреплений у ворот в Средиземное море, но важнейшей базой для всех возможных морских действий против пиратов Алжира. Названные разбойники придерживались следующей политики: никогда не оставаться в мире более чем с одной, в крайнем случае - с двумя европейскими державами одновременно. Что до прочих стран, они охотились на их торговое судоходство, захватывали суда и грузы, продавали команды в рабство. Временами, в один год, по Средиземному морю разбойничали шестьдесят-семьдесят галер с рабами-гребцами; многие из них безжалостно схватывались и с кораблями Королевского флота: Англия, пусть и медленно, но наращивала военно-морские силы. Сам Танжер стал необычной военной проблемой: город жил в почти беспрерывной осаде. Его охраняли не только стены, но несколько линий земляных редутов и частоколов, прикрытых очень глубокими рвами, с гарнизонами, доходящими до двух-трёх сотен человек. На пустынной, ровной местности между и перед этими сильными рубежами, демонстрировал Танжерский кавалерийский полк: он парадировал при постоянном присутствии вражеской кавалерии, временами вырываясь за укрепления в конных атаках.
Нам не удалось установить точного срока службы Джона Черчилля в Танжере. Более того: о, собственно, самом его пребывании в Танжере не сохранилось никаких современных свидетельств. Этот эпизод никак не отмечен в Жизни двух знаменитых генералов, но изложен через шестьдесят лет, у Ледьярда (1733 год), где подробно описана служба Черчилля в гарнизоне Танжера. В дальнейшем, все биографы Мальборо - особенно Кокс - без сомнений приняли материал Ледьярда; мы, впрочем, находим некоторое независимое подтверждение в письме самого Мальборо от 26 июня 1707 года[55], где написано:
Погода очень жаркая, стоит великая пыль, так что я провожу этот час в одиночестве, офицеры не выйдут наружу прежде чем станут обязаны выйти по приказу. В эти минуты я страдаю от жары хуже, чем в Испании, в свою бытность там в августе месяце.
Едва ли можно сомневаться в том, что Мальборо, говоря об Испании, имеет в виду Танжер. Но если история о его службе в Танжере правда, когда он приехал туда и как долго пробыл? Он не мог отправиться до того, как получил от герцога свои эполеты, а это случилось в сентябре 1667 года; и не мог возвратиться в Англию позже февраля 1671 года, когда дрался на дуэли в Лондоне. Отсюда мы можем заключить, что он прослужил в Танжере с 1688 по 1670 год.
Он уехал в восемнадцать лет и вернулся на двадцать первом году жизни, побыв простым, беспечным субалтерном в нескончаемой пограничной гверилье. Судя по письму современника, условия службы не должны были чрезмерно тяготить молодого человека нам осталось свидетельство от марта 1670 года: граф Арлингтон, только вернувшийся из Танжера в Мадрид пишет графу Каслмейну:
* Едва приехав, я поразился множеству лощёных, щегольских офицеров: не припомню, чтобы видел такое и в лучших гарнизонах Европы; затем, моё изумление усугубили цены великая дороговизна необходимого, а все излишества стоят вчетверо против Англии; между тем, большинство командиров и солдат недомогают от разных хворей, что говорит о большом напряжении их сил...
Город (когда будет построен мол) так или иначе продиктует свою волю всему миру, накрепко заперев горло Средиземного моря: он обеспечит быстрые расчёты с торговцами на случай любой испанской (и с Испанией) войны; он станет уздой для берберийских пиратов; он будет нашей собственной, постоянной станцией, где корабли получат ремонт и продовольствие сегодня это немалая часть расходов любого похода - на условиях домашнего порта; и разве не к чести Короны заботиться об английских солдатах своим попечением, без оглядки на наших учёных и родовитых соседей?[56]
Точно в тот день, когда было написано это письмо, подпись получил и второй документ - одно из редких современных свидетельств о жизни Мальборо в юные его годы. Распоряжение, выпущенное Канцелярией малой печати 21 марта 1670 года (три копии есть в Государственном архиве) гласит следующее:[57]
* Уважаемые, доверенные и Любезные Нам Советники, наилучшее вам почтение. Касательно того, что, по нашим сведениям, Нашему доверенному и Любезному Слуге сэру Уинстону Черчиллю, кавалеру (в последнее время одному из Наших Уполномоченных в Нашем Королевстве Ирландия) причитается Долг за невыплаченное содержание на нужды пропитания и жилья за время, когда он был на Нашей службе в Сумме Сто сорок фунтов. И Нам было изложено, что к выгоде Джона Черчилля, сына названного сэра Уинстона, указанная сумма передаётся сыну добрым желанием его отца для и с целью экипировки и покрытия иных издержек, так как он пошёл на службу и теперь спешно и по нашему приказу должен следовать с Флотом в Средиземные Моря.
Мы милостиво желаем всевозможно поощрить Джона Черчилля в его скорейшем и наилучшим радении на нашей Службе равно как и отдать должное названному Уинстону Черчиллю то есть уладить с ним вышеуказанное дело и сим вместе с вами выразить ему удовольствие. Наша Воля и желание в том, чтобы немедленно за вручением этого Письма в ваши руки, вы выписали и оплатили названному сэру Уинстону Черчиллю или его доверенным лицам из любых Средств, что теперь в Вашем распоряжении, вышеупомянутую Сумму в Сто сорок фунтов в полное удовлетворение Долга как то следует из сказанного выше. (Не принимая во внимание никаких ограничений) так как Мы милостиво желаем поощрить названного Джона Черчилля именно при этом представившемся случае.
Из документа можно сделать несколько выводов. В 1670 году английский флот на Средиземном море возобновил перемежающуюся блокаду Алжира. Дело поручили сэру Томасу Аллину, дав ему под начало эскадру в четырнадцать кораблей. Специально для операции собрали Адмиралтейский полк назовём его Морской бригадой или дивизионом - и солдаты взошли на корабли, чтобы действовать как морская пехота. Теперь мы можем с определённостью утверждать, что Джон добился нужного разрешения, поменял сухопутную службу на морскую, и, в 1670 году, пошёл в Алжир с экспедицией Аллина. Нам неизвестно, возвращался ли он до того в Англию, либо, что возможно, присоединился к эскадре когда она или какие-то из кораблей пришли в Танжер. Мы знаем, что для этой кампании ему понадобилась новая экипировка, оплаченная деньгами отца. Ордер ясно показывает, что в то время ни Джон, ни его отец не располагали деньгами. Если бы Джон был в то уже время любовником леди Каслмейн, если бы в историях о его ранней связи с ней была правда, столь скромная сумма - 140 фунтов - естественно, не составила бы трудности и была бы доставлена Джону щедротами сострадательного короля. Затем из платёжного поручения следует, что Джон в то время пользовался некоторым королевским благорасположением. В 1670 году Карл II подошёл к банкротству и фраза Не принимая во внимание никаких ограничений, несомненно указывает на то, что сумма в 140 фунтов стала специально выведена из под тотального моратория на все наличные выдачи королевской казны.
Выводы, сделанные нами на основании этого документа - историки странным образом упустили его из виду - подтверждают ещё одно свидетельство: вернее, отсутствие свидетельств у Пеписа. Его дневник даёт нам детальнейший отчёт обо всех светских скандалах при дворе Карла II. Он не упускает ничего. У него, как ни у кого другого, была прекрасная возможность знать всё о подобных делах. Невероятно, чтобы пресловутая, вопиющая интрижка между пажом герцога Йоркского и королевской любовницей, о коей болтали все языки, осталась без записей в дневнике Пеписа. Но он молчит - этот объёмистый, насыщенный документ эпохи. Дневник обрывается незадолго до мая 1669; автор, сам Пепис войдёт через несколько лет в замечательное время своей карьеры, став служащим и де-факто хозяином Адмиралтейства - но мало кто удосуживаются читать об этом периоде. Очевидно, что до указанной даты никаких слухов не дошло до чуткого его уха.
О флотских делах Джона не осталось записей. Мы знаем лишь то, что в августе 1670 года адмирал Аллин уничтожил некоторое число алжирских корсар, а затем был освобождён от командования. Выстроив наличные факты, мы приходим к следующим выводам: что Черчилль, юноша без денег и сердечных привязанностей, оставил двор в 1668 году; что он служил в Танжере до 1670-го; что в начале 1670 года он ходил с флотом на пиратов и прослужил несколько месяцев на средиземноморских кораблях. Он истово искал приключений, на суше и на море, использовал любую возможность попасть в боевое дело и люди на самом верху государства хвалили его рвение.
***
Пока всё выглядит превосходно, наш герой в чести, он заслужил одобрение начальства. Но затем в его жизни начался период, о котором многие судили и судят по-разному. За всю жизнь у Мальборо случились два и только два настоящих любовных романа. Две женщины, обе неординарные, властные и страстные; особы, отлично известные истории, вошли в его жизнь одна за другой. Теперь появляется первая. И мы уже свели с ней знакомство.
В начале 1671 года, Джон Черчилль, уже не мальчик, но муж, побронзовевший под солнцем Африки, обстрелянный на действительной службе, воспитанный опасностями и воинской дисциплиной, вернулся домой из Средиземноморья. Двор, без сомнения, оказал ему самый любезный приём, и паче всех Барбара, ставшая теперь герцогиней Кливлендской. Ей было двадцать девять ему двадцать. Они стали близкими друзьями ещё до отъезда Джона. Дальнее, многоюродное родство интимно сближало этих двоих, не ставя никаких преград любовной страсти. Теперь объединились родство, дружба и влечение. Вожделение воспоследовало, и не было отвергнуто. Джон сразу же стал её любовником, и эта пара, счастливая и грешная, прожила в опасных приятностях около трёх лет. Цинический, неразборчивый, понятливый и беззлобный суверен стал обманут и отступил пред такой дерзостью. Черчилль, почти определённо, отец последнего ребёнка Барбары[58] - девочки, родившейся 16 июля 1672 года, и это обстоятельство связывало пару накрепко, до самых сумерек их любви, до появления в 1675 году Сары Дженнингс.
Мнение о том, что Черчилль оспорил нежнейшую страсть короля явно преувеличено. После десяти лет близости, Карл устал от ветреной и буйной герцогини Кливлендской; другие королевские симпатии пошатнули её власть. В 1671 году Карла II и Барбару связывали главным образом дети, по большей части их общие. И, тем не менее, отношения Джона с герцогиней постоянно докучали монарху; их недозволенная любовь, их постоянные приключения и эскапады, стояли в ряду самых громких скандалов британского двора.
У нас есть два свидетельства о тогдашнем времяпровождении Джона.[59]
Лондонские новости.
6 февраля 1671 года.
Вчера состоялась дуэль между мистером Фенвиком и мистером Черчиллем при секундантах мистере Харпе и мистере Ньюпорте, сыне лорда Ньюпорта; поединок закончился для мистера Черчилля лёгким, неопасным для жизни ранением.
И ещё одно.
Сэр Кристофер Литтлтон к лорду Хаттону.
Лангард, 21 августа 1671 года.
При встрече с вашим сиятельством 3 августа, вы высказали о мистере Брюсе худшее, нежели в прошлом году, мнение, но, думаю, вы могли бы не проявлять к нему излишней строгости. Его капитан преуспевает дома не лучше: недавно, он встретился в поединке с молодым Черчиллем. Не знаю причин ссоры, но Герберт дважды проколол Черчиллю руку, а Черчилль ему бедро, и затем Герберт обезоружил его. Но что хуже, я слышал, что Черчилль так рассказал об этом, что король и герцог сердятся на Герберта. Я не знаю, как он сумеет оправдаться.
Из всех приключений, что выпали на долю любовников и остались в исторических анекдотах, широко известны два. Первое описанное Барнетом это неожиданное появление Карла в спальне герцогини, когда Джон, спасая честь дамы (или то, что осталось от её чести) выпрыгнул в окно, на внутренний дворцовый двор, с большой высоты. Барбара наградила героя пятью тысячами фунтов за отвагу и такт.[60]
Второй анекдот приписывают послу Франции, Барильону. По его словам, герцог Букингемский дал сто гиней одной из служанок, наказав доносить о любовной интриге. Так он узнал, что Черчилль придёт к Барбаре в определённый вечер, в точно назначенный час. Герцог привёл короля на место. Любовник спрятался в герцогинином (Барбара стала герцогиней в 1670-м) серванте. Недовольный монарх порыскал по покоям, затем попросил вина со сладостями; тогда его любовница попыталась отговориться потерей ключа от серванта. Король ответил, что выломает дверцу; Барбара открыла сервант и пала на колени обок суверена, в то время как обнаружившийся Черчилль встал на колени с другой монаршей стороны. Карл сказал Джону: Поди; прощаю тебя, плут, ты ведь зарабатываешь этим на хлеб[61].
Король, по присущей ему привычке, выпалил из обоих стволов. Отменная история но есть ли в ней правда? Сам Барильон приехал в Англию лишь в сентябре 1677 года; возможно, он слышал её от своего предшественника, Куртена. Барнет относит первый анекдот к 1670 году. Барильон датирует второй 1667 годом. Вот чего стоят все эти слухи. Мы показали, что ничего подобного не могло случиться до 1671 года. Итак, это одна из тех хороших историй, что выдумываются впоследствии и, зачастую, приписываются известным лицам.[62]
Но если поинтересоваться деньгами, мы переходим на твёрдую почву. Однажды, знаменитый лорд Галифакс, отвлекшись на время от важнейших государственных дел, учредил некоторую зачаточную форму страхования жизни. Солидный процент привлёк молодых джентльменов и офицеров, чьи непрочные судьбы могли пресечься из-за дуэли, болезни, какого-то инцидента. И двадцатичетырёхлетний Джон купил у лорда Галифакса страховку за 5000 фунтов с пятьюстами фунтами ежегодной премии. Страховка оказалась выгодным вложением средств. Он пользовался этим доходом около пятидесяти лет. Пятитысячный вклад лёг в основу его замечательного состояния. Но откуда Черчилль взял деньги? У Барбары никто не может предположить иного источника. Но, в таком случае, не идёт ли речь о 5000 фунтов за побег в окно, и если так что можно сказать об этой финансовой сделке? Некоторые защитники Мальборо отрицают изложенный факт. Свидетельства их скудны слухи, ходившие между современниками да беглое упоминание в одном из писем лорда Честерфилда. Но в бумагах Бленхейма есть оригинал счёта, и я представляю его факсимиле: документ этот не видел света более двух с половиною столетий.
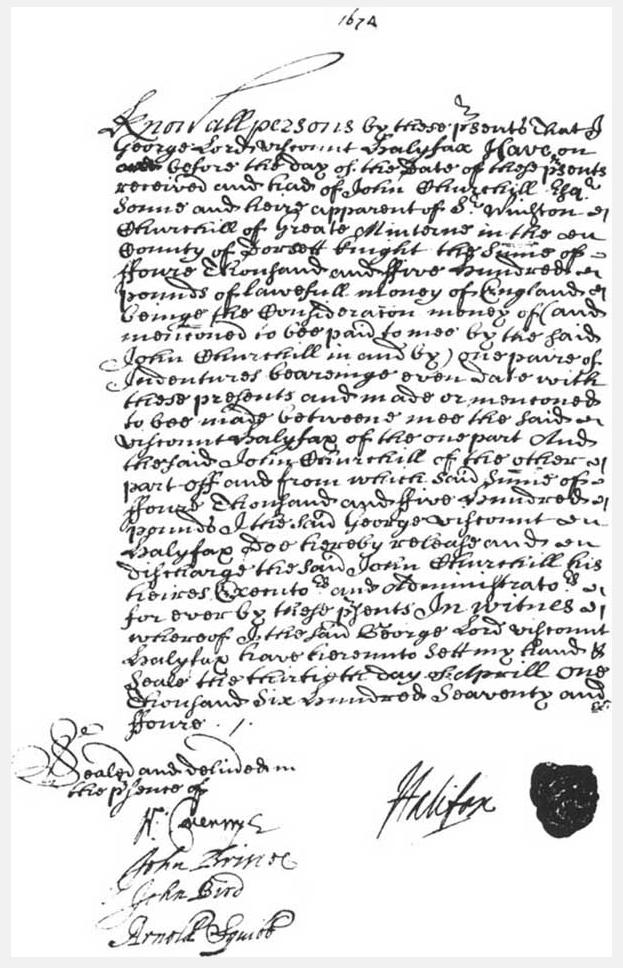
Счёт лорда Галифакса. Из рукописного фонда Бленхейма.
Нормы семнадцатого столетия не усматривали безусловного бесчестия в человеке, кто пользовался деньгами богатой любовницы. Это был всего лишь путь к светскому успеху, путь повсеместно принятый, как сегодня принимается брак по расчёту. Но что поражает всякого это мудрое, дальновидное распоряжение деньгами. Моралисты оскорблены тем фактом, что Джон не растратил дар Барбары в разгульной жизни. Они руководствуются собственной логикой, и полагают, что деньги должны были уйти на карты, вино и женщин. Законченное бесчестие этой истории доставило бы им изрядное удовольствие. Должно быть, ни один человек двадцати четырёх лет во всей тогдашней Англии не поступил бы с такой суммой как Джон, извлёкший из неё скромный, но стабильный пожизненный доход. Возможно, объяснение кроется в навязчивом страхе нищеты после скудного детства в Аше. Возможно, что Барбара, знавшая постоянную боязнь Джона, решила избавить его от страха и, вручая дар, настояла именно на таком использовании денег. Как бы то ни было, но дар любви стал доходным вкладом.
Забавно, насколько по-разному судят об этом эпизоде люди разных поколений. Ледьярд злорадствует по поводу Атлантиды не хуже лорд Маколея, и, наравне с последним, вылавливает оттуда и использует самые перчёные кусочки. Но у Ледьярда иная цель. Работая над книгой в 1733, он смакует эти приключения, с очевидностью полагая, что они говорят в пользу его героя.[63]
Но я не стану распространяться о достижениях нашего юного искателя приключений на поприще Венеры - они стали развлечением всего бомонда и обеспечили светские кружки того жовиального времени пищей для пересудов, но рассказ о них уведёт нас слишком далеко от столбового пути его намерений.
Но и он затем не может удержаться от искушения и принимается за дело с аппетитом, что приходит во время еды.
Рассказывают, что в те времена, одну из прелестнейших любовниц короля Карла стал осаждать джентльмен, более удачливый, нежели благоразумный, вымогая у красавицы крайнее благоволение; и она согласилась доставить ему удовольствие, коего он выпрашивал, за умеренную плату в 10 000 фунтов за одну ночь. Влюблённый глупец уплатил; но, решив добавить к блаженствам Венеры блаженства Бахуса, вкусил столь щедрую долю последних, что по пришествии счастливого часа оказался неспособен войти в обладание задорого купленным сокровищем. Влюблённый, встретившись с таким разочарованием, чрезмерно понадеялся на добросовестность леди - что та, когда он придёт к её чарам во второй раз, будучи способен получить искомое, не станет требовать с него равной платы; но дама настояла на второй сделке, снова на ту же сумму. После такового несуразного требования, место любовной страсти заступила ярость, гневающийся джентльмен оставил даму в покое, и та склонилась в благосклонности к более привлекательной персоне его называли тогда прелестнейшим и самым желанным кавалером при дворе. Она отдала ему всю полученную от простофили сумму в залог дальнейшего расположения, и он взял деньги с желанием заслужить их; затем, как то полагают, этот замечательный в щедрости дар стал, в некоторой степени, основой его дальнейшего преуспеяния.
В подкрепление этого скандального рассказа, автор цитирует строфу, написанную тридцать лет спустя - из Подражаний Горацию Поупа:
Вот первый близости алча ей десять тысяч дал в уплату
А за вторую ночь не дал: чрезмерна в двадцать тысяч трата!
Второй был мил ей - взнос глупца весь отдала за сладки стоны
Когда же стала не нужна, он отказал ей и в полкроне.
Сам Маколей должно быть, скрепя сердце - не увенчал этой цитатой свои клеветы. Стих Поупа мог бы стать замечательной кульминацией выстроенной историком тезы. Для законченного образа негодяя Маколею не хватает именно этой строфы. Увы, но тот факт, что герцогиня Кливлендская умерла состоятельной женщиной и никак не нуждалась в деньгах, тем более в полукроне, стал препятствием неодолимым даже для его энтузиазма. Он пустил Поупа побоку, выставив это жертвоприношение свидетельством своих справедливости и ответственности.
Архидиакон Кокс, занимаясь жизнеописанием Мальборо в 1819 году, выказывает куда лучшую деликатность:
Отменно красивый и воспитанный офицер не мог не попасться в сеть любовных дел распущенного двора. Но мы убережём читателя от неловких подробностей, естественно подхваченных безнравственными перьями дальнейших времён. Едва ли стоит принимать во внимание историю о том, что он получал доход от связи с герцогиней Кливлендской, коей - в чём его обвиняют - отплатил впоследствии чернейшей неблагодарностью. Лживость этого анекдота вполне выясняется, если иметь в виду, что он почерпнут из такого нечистого и сомнительного источника, как Новая Атлантида. Мы, впрочем, согласимся с тем, что полковник Черчилль мог пользоваться щедростью герцогини, но не станем искать причины в любовных отношениях, так как он и без этого серьёзно притязал на её протекцию в силу недалёкого родства: матушка Черчилля приходилась герцогине кузиной. И каким бы ни было поведение полковника Черчилля в буйстве его юности, среди искушений распущенного двора, он, вскоре, встал на правильный путь, порвал с безнравственными связями под влиянием чистой любви, что стала светом всей его дальнейшей жизни.[64]
Затем Маколей, писавший в 1858 году, в истинном духе викторианской пристойности, потщился окрасить в кричащие цвета эту вполне законченную прежними мастерами ксилографию. Он - говорит Маколей - был расчётлив и в самом пороке, взимая солидную контрибуцию с дам, обогащённых подношениями более щедрых, чем он любовников. Он был содержанцем самой расточительной, властной и бесстыжей из шлюх. Он существовал на постыдные вознаграждения от герцогини Кливлендской. Он был ненасытен до денег. Он был один из немногих, кто в самом цветении юности любил барыш пуще вина и женщин и кто, на самых высотах величия, любил барыш пуще власти и славы. Природа наградила его драгоценными дарованиями, но он употреблял их главным образом для стяжания. В двадцать он делал деньги на своей красоте и своей силе; в шестьдесят - на одарённости и славе.[65]
Чарльз Бредло, другой враждебный историк, развил в восьмидесятые ту же тему - он, впрочем, стал отчасти спровоцирован сэром Рендольфом Черчиллем[66], кто назвал его избирателей отбросами общества - с несколько лучшей умеренностью.[67]
Насмешки Маколея не остались безответными. В 1864 году, писатель необыкновенной силы, но мало кем читанный, опубликовал книгу, долго пролежавшую в рукописи: в основе своей серию очерков, ополчаясь, в особенности на знаменитого историка, сомневаясь в корректности, более того - честности маколеевых трудов. В Расследовании Паджета история юных лет Черчилля характеризована со знанием предмета, по справедливости, в словах непревзойдённой выразительной силы:
Брошенный с самых ранних лет в распутство двора Карла II, он, примечательно привлекательный и обходительный юноша, с располагающими манерами незамедлительно привлёк к себе внимание. Говоря об оскорбительных наветах лорда Маколея - тот заявляет, что молодой человек использовал представившиеся возможности ради выгоды, завязывая с богатыми и развратными придворными дамами отношения того рода, какие были у Тома Джонса с леди Беластон - таким заявлениям мы не находим подтверждений даже в скандальных хрониках тех скандальных дней. Без сомнения, он не отличился при дворе Карла доблестью, отличившей пред фараоном того, кто управлял поместьем Потифара[68]. Обстоятельства его связи с герцогиней Кливлендской приведены у Граммона. Никогда, говорит Гамильтон, она не чаровала сильнее, нежели в дни, когда обратила благосклонное внимание на молодого офицера гвардии. Едва ли можно ожидать, что Черчилль, человек юный и пылкий, оказался бы нечувствителен к страсти, какую сам пробудил в груди прекраснейшей дамы того сластолюбивого двора. Затем и из-за того он навлёк на себя немилость короля, кто воспретил ему появляться при дворе. Мы ничуть не защитники аморального поведения; но Черчилля надо судить по стандартам его времени. Он не покушался на невинность; не рушил домашнего очага. Герцогиня Кливлендская была не только прелестнейшей, но самой распущенной и самой ветреной из женщин. Повинуясь мгновенной прихоти, она разбрасывалась в предпочтениях от короля до Якоба Холла.[69] Она щедро расточала свой кошелёк и самоё себя; не усомнимся в том, что Мальборо, нуждавшийся и привлекательный энсин, пользовался и тем и этим. Но говорить о том, что Черчилль существовал на постыдные вознаграждения от герцогини Кливлендской, что он был содержанцем самой расточительной, властной и бесстыжей из шлюх значит заниматься словесной подтасовкой: он пустился в дерзкое и удачное предприятие с прелестной любовницей короля.[70]
Пусть читатель сообразно темпераменту и склонностям сам выберет между приведенными мнениями. Мы лишь предоставляем ему известные фактические свидетельства назидательные либо наоборот. И факты эти стоит расценивать с пониманием того, что окрест шла война об этом в следующей главе.
Время уйти от корпения над обрывками и анекдотами немногими записями о юности Черчилля и обернуться к обширным, роскошным пространствам Европы, куда готовится выйти наш герой, чтобы однажды воссиять на этой сцене.
Могущество Франции вот доминанта жизни Континента второй половины семнадцатого века. Страна вышла из гражданских войн. Внутренние раздоры изгладились, и Людовик XIV правил единой нацией в восемнадцать-девятнадцать миллионов душ на прекраснейшей во всём мире земле. Порох испепелил феодализм с его удельными воеводами и наёмными отрядами, и в каждом государстве Европы встали как следствие частых войн - постоянные армии. Все правители постарались обзавестись регулярной военной силой оплаченной, дисциплинированной, выученной правительственным попечением - и армия стала главным мерилом международного государственного веса. Во Франции этот процесс шёл при жизни нескольких поколений, прерываясь, спотыкаясь, преодолевая архаические остатки парламентаризма и местных самоуправлений. Разнообразные, но схожие с французскими обстоятельства сопровождали тот же процесс по всему Континенту. Суверенизация шла повсеместно и гигантскими шагами. Люди Европы вышли из долгой неразберихи в век массового вооружения против всех неприятелей, внешних и внутренних.
И пусть Английские острова лежат среди штормовых морей нам было суждено встать на дорогу соседей. Но регулярная армия, в отличие от сухопутных держав, не стала для Британии обязательной необходимостью. Мы стояли наособицу, двигаясь за европейской военной массовостью медленно, с отставанием, запаздывая. В один счастливый исторический миг парламент обрёл достаточно власти чтобы обуздывать королей и контролировать вооружённые силы: так родились наши свободные общественные институты и Англия стала их цитаделью посреди всего мира.
Теперь она была слаба маленькая, разделённая, почти безоружная страна. Суть её внутренней борьбы отрицала регулярную армию. На её плечах и фланге лежали две тяжёлые ноши, две обузы: Шотландия и Ирландия. По стране распространилось благополучие, но правительство собирало ничтожные налоги. Здесь сказывалась слабость исполнительной власти следствие той же внутренней борьбы. Всё население Англии, подавленное и обессиленное, выдохшееся и апатичное, живущее без ясной цели насчитывало чуть больше пяти миллионов человек.
А на другом берегу Канала, за узкой межой в двадцать одну милю танцующих волн, поднялась великолепная конструкция французской власти и общества. Кадровые, профессиональные офицеры руководили армией мирного времени в сто сорок тысяч солдат на постоянном содержании. Военачальники и фортификаторы со всемирной славой Тюренн, Конде, Вобан; искусный военный управленец Лувуа; мастера муштры, такие как Мартине (последнее имя стало нарицательным[71]) выковали и держали наготове великолепный военный инструмент замечательной силы. Искусные, прозорливые, квалифицированные министры внешних сношений и дипломаты настойчиво раздвигали границу французского влияния. Финансисты и торговые посланники, мудрые, информированные не хуже самого Кольбера, шли в колонии, привязывая их исключительными коммерческими выгодами, и добытые коммерцией обильные деньги собирались и работали для страны самой передовой, самой культурной, самой сильной в мире.
Но слава Франции не ограничилась материальной областью. Её искусства вошли в пору долгого расцвета. Франция дала второй половине семнадцатого столетия не только общий для мира вокруг Священной Римской империи язык дипломатии, но универсальные светские манеры и даже литературу. Во всех городах культурного мира смотрели французские пьесы, читали французскую поэзию, чтили имена Мольера, Расина, Буало. Каждый двор германского владетеля подражал французским образцам в архитектуре, живописи, музыке. Даже Голландия, достигшая многого в ремёслах, национальных искусствах, финансовых делах оскоромилась, соблазнившись французскими нравами и обыкновениями[72] в правление Вильгельма Оранского. Придворные богословы Людовика, изострившие ум в борьбе с янсенистами и во внутренней галльской полемике обошли римских коллег. Французский католицизм с его прославленными деятелями, такими как Фенелон и Боссуюэ, обрёл великолепие, внушительность, стал убедительнейшим направлением Старой веры в борьбе с Реформацией. Париж, по сути, повёл культурное завоевание: то была эффективная, идущая по плану экспансия - не лишь военно-экономическая, но религиозная, нравственная, интеллектуальная. Франция заявила претензию на мировое господство самую обоснованную со времён Антонинов. И у кормила царства, на вершине недостижимого величия стоял более полустолетия умелый, знающий, ненасытный эгоист-работник, рождённый для трона.
Испания стала пугалом протестантской Англии во времена королевы Елизаветы и Великой Армады. Многие благочестивые семьи подвергли себя всяческим несчастьям, не поступившись наследственным католицизмом. Но в сердцах английского народа, от крестьянина до пэра, осталась тлеющая, глубокая память о кострах Смитфилда[73] и любой ветерок мог раздуть эти уголья в жаркое пламя. Теперь Испания была немощной, нерешительной, шаткой страной, опрокинутой в прошлое, в молитвенные бормотания. Её железная пехота, получившая первый разгром от Конде при Рокруа, осталась в истории. Теперь в гарнизонах например, в Испанских Нидерландах, сегодня это Бельгия и Люксембург и в Новом Свете стояли разложившиеся отряды, пародия на солдат. Испанский флот догнивал в гаванях; в испанской казне не было и монетки. Некогда гордая империя Карла V безнадёжно износилась за столетие почти беспрерывных войн и погрузилась в религиозную манию. Повапленный гроб почившей силы покрыли многие слои суеверий и церемоний. Дошедшие до небывалого жестокости довершали оплывание, крошение власти. Осталась неимоверная кичливость; древняя, самонадеянная аристократия; историческое владение полумиром; деспотическая церковь и трон, занятый больным, бесплодным ребёнком, кто мог умереть со дня на день, не оставив преемника.
Боязнь Испании постепенно уходила из английских голов. Оливер Кромвель, человек старых правил, родившийся при Елизавете, упрямо держался прошлого предубеждения. Но в 1654 году, когда он предложил воевать с Испанией на стороне Франции, совет генералы Круглоголовых воспротивились, удивив Кромвеля неуступчивостью. Если бы не желание хозяина, они предпочли бы воевать на противоположной стороне. Власть лорда-протектора возобладала, и его железнобокие пехотинцы пошли на штурм испанских позиций в песчаных дюнах Дюнкерка. Широкий круг английского образованного мнения счёл такую политику старомодной, отжившей своё. По их суждению, угрозой для английских свобод, торговли и веры стала теперь Франция. Это сражение, Битва в дюнах, завершило столетнюю борьбу с Испанией. Настало время, когда опасности и трудности Англии коренились уже не в испанской мощи, а в испанской слабости. Пришли дни, когда главным опасением англичан стала растущая сила Франции.
Голландцы, родственный англичанам народ, похожий на нас характером и верой, стали злейшими соперниками Британии на морях, в торговле, колонизации. Пишут, что в тот век половина населения Голландии зарабатывала на жизнь коммерцией, ремёслами, мореходством.[74] Упрямый, основательный народ, сплочённый в борьбе против испанской тирании, жил, трудился, богател под руководством военной олигархии, воюя с Англией по многим поводам. Флот Нидерландов памятовал Тромпа с его метлой на мачте - чтобы вымести Англию с морей. Опасное голландское соперничество, торговое и колониальное, распространилось до индийского побережья, на Восток, через Атлантику до Нового Амстердама старое, до 1664 года, имя Нью-Йорка. Война с Нидерландами шла при Кромвеле, вновь разразилась в ранние годы правления Карла II и обернулась для Англии позором. В те годы, моряки Королевского флота получали жалование лишь раз в три года, в конце трёхлетнего периода службы. Команды, пришедшие домой в 1666 году, получили на руки платёжные обязательства - так называемые билеты - за три года трудной работы. Но у короны не оказалось денег, и Морской выплатной пункт не выдал по билетам ни гроша. Некоторые, беспардонно обокраденные по собственному их мнению, моряки пошли на непростительное преступление. Они отправились в Голландию и провели нидерландский флот через мудрёные препятствия эстуария Темзы.[75] Несколько английских кораблей, поставленных на прикол на Медуэе и Темзе, были сожжены; в Лондоне ясно слышали гром голландских пушек. Достойного ответа не получилось помешала нищета казны. Карл вместе с подданными проглотили оплеуху, Англия подписала мир 1667 года. Между двумя странами легли горькие воспоминания, а претензии Англии на неоспоримое господство в Малых Морях[76], пусть и подтверждённые мирным договором, плохо вязались с исходом морской войны. С Бредского договора пишет историк Объединённых Нидерландов[77] начался самый славный период Республики.
Отношения Англии и Нидерландов двинулись извилистым курсом; прошли многие годы, прежде чем тягостные ссоры из-за торговли и морского преобладания стали, наконец, делом второстепенным ввиду неуклонного роста французской мощи. Сегодня легко говорить, что Карл должен был идти с Голландией против Франции или что он обязан был одолеть папистов вместе с протестантами. Намерения Нидерландов того времени были переменчивы и труднопостижимы; с другой стороны, многие католические - из сильнейших - страны оппонировали Парижу. Голландией управлял Джон де Витт и его брат, Корнелиус. Братья де Витты симпатизировали Франции. Джон де Витт верил, что сумеет договориться с Людовиком на путях хитроумной политики умиротворения. Людовик располагал постоянным средством для подкупа Нидерландов голландское благоденствие зиждилось на торговле с Францией. И разве Франция не была другом, даже поборником Республики в её родовых муках? И как быть с Бельгией, этим испанским леном, но удобным буферным государством между двумя странами и, если дойдёт до раздела, крупной, нетрудной добычей обеих соседей? Голландия, несомненно, разделилась надвое одна миролюбивая, временами франкофильствующая Голландия Джона де Витта и Амстердама; вторая чтила память и род Вильгельма Молчаливого, разглядев в его болезненном и энергичном наследнике правителя выдающихся способностей; того, кто может возглавить их партию. И никакое правительство, ни английское, ни французское не могло угадать, какая из Голландий возьмёт верх в решительный час.
Указанные неопределённости усугубляла туманная, колеблющаяся позиция стороны, что называется теперь Пруссией. Великий курфюрст Бранденбурга правил основной, северной массой протестантского населения Германии. Но вдоль его западных границ, по всему течению Рейна и дальше, на юг, к Баварии и Дунаю, шёл пояс второстепенных государств частью протестантских, частью католических и переход этих крепких образований на ту или иную сторону мог решительным образом изменить баланс сил. За Пруссией начиналась Польша: большое, беспорядочное, обносившееся королевство, простёршееся от Балтики до Украины; выборная польская монархия стала охотничьим призом иностранных интриг, а основной закон Польши был написан так, что нация непрестанно бурлила в этом конституционном котле. За варшавским троном безжалостно обглоданным беззаконными аристократами[78] охотились все европейские принцы и авантюристы; приграничные области были опустошены; вельможи коррумпированы; Польша стала европейским посмешищем. В одно время, в исторический промежуток правления Яна Собеского страна насладилась славной независимостью, но теперь и Людовик XIV, и император и Великий курфюрст без устали плели заговоры, соперничая в несчастной стране, так что любому претенденту на польский трон приходилось идти к цели, балансируя между соревнующимися иностранными влияниями. Неудивительно, что Великий курфюрст придерживался, как было сказано выше, уклончивой политики вплоть до последней возможности.
На восточном фланге Польши обширно распростёрлась огромная империя московитов Россия, как мы говорили до недавнего времени страна почти варварская, едва не раскрошенная недавним мятежом казаков. Казацкий гетман Стенька потряс царскою Москвою, совершив одновременно неописуемые жестокости против угнетённого крестьянства[79]. Контакты России с западной цивилизацией блокировали Швеция и Польша, кто вместе старались не дать Москве ни единого порта на Балтике. На юге турки отрезали страну от Чёрного моря. В начале правления царя Алексея (1645-76), человека миролюбивого и ответственного, большую часть государственных дел вёл Никон, патриарх-реформатор. Стеньку поймали и четвертовали заживо в 1671 году; царь вскоре умер и никто не мог предугадать, что эти восточные варвары появятся среди держав запада, пройдя дорогой, открывшейся Петру Великому.
На севере Европы господствовала Швеция, древняя соперница Дании: сильная держава, предполагавшая обратить Балтику в шведское озеро. В описываемое время шведское государство объединяло Финляндию, Ингрию, Эстонию, Ливонию, Восточную Померанию, а короли дома Ваза строили традиционные планы на Данию и части Польши. Шведы пользовались в Европе репутацией мужественных смельчаков, а шведская армия поражала европейцев профессиональной организацией, боевым духом и отменной выучкой. По ходу Тридцатилетней войны, Густав Адольф бил войска всех держав центральной Европы. Но теперь победы Густава отошли в прошлое, перечёркнутые некоторым событием: Пруссия пожелала Померанию, землю шведской короны и очень скоро, в битве при Фербеллине (1675) Великий курфюрст во главе прусских войск опрокинул знаменитую шведскую армию. Между двумя странами открылась острейшая вражда; Франция, с её безмерным могуществом, не дала Пруссии поглотить Померанию; Швеция исповедовала протестантизм, но отныне её замечательные солдаты могли выйти в поле за интересы Франции или попросту за французские деньги, и ни один датский или немецкий политик последней четверти семнадцатого столетия не стал бы настаивать на противоположном мнении. В Уайтхоле, в окружении Карла II отлично разбирались во всех этих обескураживающих обстоятельствах.
Перебирая страны, мы достигли владений Священной римской империи. Этот организм Центральной Европы, наследник великой традиции и громкого имени[80] не означал территорий он означал членство, и земли стран-участниц империи покрывали (приблизительно) территорию современной Германии, Австрии, Чехо-Cловакии и Бельгии. Правитель выбирался пожизненно, потомственными выборщиками (электорами) семи (после Вестфальского мира восьми) государств. Габсбурги, суверены Австрии, располагали выбором Силезии, Богемии и Венгрии, были самыми сильными кандидатами и, де-факто, наследственными владетелями ритуального имперского трона.[81]
Собственно Австрия и династия Габсбургов принадлежали католицизму истовому, но не жестокому, не агрессивному, не прозелитскому (за исключением Венгрии), и вместе с тем оставались твёрдыми, основательными религиозными приверженцами Папы. Тогда, как и в нашем столетии, Габсбурги-суверены провели пятьдесят тревожных лет на троне, колеблемом внутренними напряжениями в беспокойной империи именно эти напряжения развалили страну через два века, когда пришло мировое несчастье. Вену, при опасном пренебрежении внутренним положением, делами в собственной стране, заботили тревожный фактор роста французской мощи, экспансия Франции, и зачастую угрозы от Пруссии. Турки, ведомые султаном-фанатиком, давили на юг Европы натиском завоевания, не находя отпора во Франции и Испании, как это было в прежние времена. В любой день оттоманские армии, черпавшие рекрутов и средства в порабощённых христианских областях теперь мы зовём их балканскими странами - могли прорваться к воротам Вены в варварском нашествии. Добавим сюда не прекращавшийся мятеж мадьяр Венгрии. В немногих словах, разделённые князья Германии противостояли монолитной силе Франции, а Австрия сражалась насмерть с турками, но у всей огромной конфедерации были общие враги и друзья: главный разлом Европы шёл по линии великого антагонизма Бурбонов и Габсбургов.
Италия семнадцатого столетия значила не больше географического понятия. На севере в начале столетия гений Карла-Эммануила I (1580-1630) вывел из сумрака Савойю (Пьемонт). Теперь его страна шатко балансировала между Империей и Францией, отдаваясь то одной, то другой стороне в зависимости от прихотей военной фортуны. Пишут, что вероломство правителей Савойи следовало из географического положения страны, привратника Альп, и чтобы уберечь себя и государство от катастрофы, её суверенам оставалось одно - изумительная дипломатическая переметчивость.
Европа опасливо жила в малоперспективном разделении перед мощью и притязаниями блестящей Франции. И Карл II должен был править и искать выгоды для своего королевства с учётом перечисленных сил и факторов.
Историки девятнадцатого столетия, работавшие в большинстве своём, среди безмятежного викторианского спокойствия, обыкновенно не принимают в расчёт слабости и шаткого положения нашей страны в период, о котором идёт теперь речь. Они полагают резонёрство методом и, защищая политические правила, верные в современном им мнении, жестоко осуждают всякое отступление от них. В особенности они толкуют о достоинствах твёрдого, ясного и честного поведения, порицая обман, интриги, колебания, двоемыслие, вероломство. В общем смысле, против этого нечего возразить. Но Англия 1660-х годов могла пройти более достойным, нежели то случилось в действительности, курсом сквозь все беды и лучше справиться со всеми затруднениями Европы при одном лишь условии: если бы уже в те времена успела обрести ту силу среди прочих держав и те материальные возможности, коими располагает теперь, через двести лет. Политика слабой страны, живущей в угрозах, не может возвыситься до стандартов государства, наслаждающегося безопасностью и богатством. Разнообразные, переменчивые опасности диктуют слабому непостоянный, противоречивый курс и множество манёвров, несовместимых с мужеством и честью. Англия семнадцатого столетия выглядит немногим лучше Румынии или Болгарии при первых конвульсиях Армагеддона, в дни, когда эти балканские страны увидели себя на кону, ставками в игре больших империй. Мы должны были выжить и остаться свободными: так и вышло. Сказанное, впрочем, не отрицает той истины, что прямой, откровенный, честный политический курс достоин похвалы и ведёт к успеху. Но дуб устоит в ураган; а тростник выживает в буре, кланяясь и трепеща.
Ошибочно - как то делается - делить период политической жизни Англии от 1667 до 1670, прошедший сначала в Тройном Альянсе с Нидерландами против Франции, затем в союзе с Францией против Голландии по секретному Дуврскому договору на две части: на время доброе и время злое; на темные и светлые дни; на период влияния сэра Уильяма Темпла и, потом, герцогини Орлеанской. На деле, проблемы и подходы не претерпели изменений, а наша политика не ушла из рук Карла II с его министром Арлингтоном. Оба не имели ни веры, ни иллюзий, но были мудры и питали некоторую любовь к отечеству. Вторжение Людовика в Бельгию поздним летом 1667 года стало для короля и министра чрезвычайно сложной политической задачей. В ту пору своей жизни Карл, по любому соображению, желал играть в Европе независимую роль, а Арлингтон, с его испанскими симпатиями, воспитанием и женой-голландкой определённо оппонировал Франции. И следуя первому импульсу, они решили противиться вторжению в Бельгию.
Почему судьба этого клока земли так сильно заботила наших простодушных предков? Это более чем удивительно. Но так; и в 1667 году они пренебрегли памятью или отбросили воспоминание о линейных кораблях, сожжённых на Медуэе и Темзе; обо всех страстях тяжёлых морских сражений и всё потому, что французы встали на пороге Бельгии. Почему Бельгия так много значила для них? Прошли двести пятьдесят лет, и мы увидели, как народы Британской империи спешат через все моря и океаны мира, чтобы победить или умереть за тот же кусок бесплодной, холмистой земли в устье Шельды. Каждый чувствовал, что мы должны поступить именно так, никто не вдавался в логические и исторические умствования. Сегодня, при всей нашей просвещённости, мы знаем, что многие убеждения невыразимы вербально. Это понимали и наши предки. Двор, парламент, Сити, деревенские джентльмены 1668 года точно знали, что сильнейшая военная держава Континента не должна захватить Бельгию; то же самое доподлинно поняли все классы и партии Британской империи в августе 1914-го. Волшебство инстинкта!
Карл и Арлингтон пустились в переговоры, чтобы понять: возможно ли противостоять Франции и, тем более, противостоять с выгодой? Они обратились ко дворам Европы и отовсюду пришли обескураживающие отклики. Испания не располагала никакими возможностями для обороны собственных, угрожаемых теперь провинций. Её солдаты не могли даже и добраться до них без английских либо голландских морских транспортов. При всём желании, Испания была бессильна, Мадрид не мог сделать и малого шага. Голландцы не хотели войны с Францией. При сильной поддержке, при обильной награде из остатка испанских территорий, они могли бы настаивать на некотором пределе французского продвижения. Политика императора, судя по разговорам его лондонского посла, несколько отстала в историческом развитии. Он не желал наступательного союза, в особенности с еретиками. На деле, как мы знаем теперь, именно в те месяцы он работал над секретным договором с Францией и целью его соглашения с Людовиком был раздел всей Испанской империи. Великий курфюрст соглашался воевать на субсидии от Нидерландов или Испании но первые не хотели, а вторая не могла их дать. Курфюрста беспокоила Швеция, и он допустил бы экспансию Франции на западе, когда бы Париж дал ему свободу рук в Польше. Всякий поймёт, что за будущее ждало такую коалицию против господствующей, сосредоточенной французской военной силы.
Поверхностный наблюдатель легко назовёт дальнейшие размышления Карла и Арлингтона хладнокровными и циничными - они обратились к другой возможности, к дальнейшей перспективе для Англии получить что-то от французских побед в обмен на помощь в войне с Голландией. Но здесь они нашли жёсткий отпор. Людовик, надеясь получить Бельгию без настоящей схватки с Нидерландами, не был готов к обмену испанских колоний на союз с Англией, тем более на английский нейтралитет. Беспристрастно исследовав обе альтернативы, Карл, в естественных и понятных опасениях, решился противостоять Франции. Он послал сэра Уильяма Темпла в Гаагу и заключил знаменитый Тройственный союз: Англия, Голландия, Швеция. Два правительства Швеция выступала как простой наёмник вошли в альянс с различными и ограниченными целями, но оба рассчитывали добиться расположения Парижа, пригрозив Франции войной. Правящие круги Англии надеялись получить союз с Францией, отучив Людовика презирать Британию; голландцы полагали, что смогут сохранить с Францией дружбу, вынудив Испанию к компромиссу. И этот союз, несуразно причудливый по своему замыслу и чрезвычайно шаткий в основании, возымел необыкновенное действие. Людовик увидел, что противостоит теперь некоторой Северной лиге; Арлингтон, тем временем, добился мира между Испанией и Португалией, высвободив испанскую армию для действий на главном театре. Последствия стали скорыми и впечатляющими. На мир легла тень испанского наследства. Людовик, потянувшись в странном и страстном порыве к куску бельгийской земли, вызвал к жизни фантом до времени бесплотный, но это был абрис, начало будущего Великого союза, грядущего губителя французской мощи и отшатнулся от призрака. Тем более что на руках Людовика был свежий, 1668 года, договор с императором о разделе всей испанской империи, и французский монарх решил подождать огромных приобретений будущего, не входя теперь в серьёзную войну ради выигрыша куда меньшей ценности. Он мог позволить себе терпение и вернулся в границы Франции, отозвав армии, утихомирив протестующих генералов, ограничившись до времени захватом Лилля, Турне, Армантьера и других крепостей, что отдавали Бельгию его милости. В апреле 1668 года Франция и Испания подписали Аахенский мир - под давлением и под гарантии Тройственного союза.
Теперь мы подошли к роковым для дома Стюартов дням. В 1668 году, основой внешней английской политики стали противоречивые мотивы и бумажные гарантии. Тройственный союз с неизбежностью должен был опочить от любого трения или искушения. Союзники обязались отстаивать статус-кво Бельгии против агрессивных посягательств вплоть до высадки экспедиционного корпуса, но требовали в обмен невозможного испанских субсидий. Никуда не исчезли застарелая ненависть и свежие обиды; неутихающая борьба в Вест-Индии и Гвиане; борьба за Канал. Карл, при всей своей бесчувственности, всегда помнил о сожжённых на Медуэе королевских кораблях. Он ненавидел голландцев: пусть ход событий принудил его взять сторону Нидерландов, пусть до времени они были вместе, но Карл томился в вожделении союза с Францией. В 1669 году он начал переговоры с французским послом Круасси и, в 1670 году, договорённость стала достигнута.
Невестка Людовика XIV, герцогиня Орлеанская, Мадам французского двора приходилась Карлу родной сестрой, его возлюбленной Минеттой и стала агентом Франции, когда подошёл решительный час. Очаровательная женщина с трагической судьбой; романтический персонаж; историческая фигура; она сыграла ключевую роль и умерла тотчас после этого. Никто не пользовался большими любовью и уважением у двух монархов. Оба почитали её персону: оба восхищались её умом. Она была чистейшей, глубочайшей привязанностью всей жизни Карла. Людовик с опозданием осознал, что упустил многое, не сделав эту женщину своей королевой. Минетта любила обе страны родную и приёмную, желая видеть их в союзе, но сердцем радела за английские интересы в собственном, превратном их понимании она, со всей искренней набожностью, мечтала о Старой вере для Англии. Она призвала и употребила свои ум и обаяние для компромисса больше чем для компромисса, для альянса Англии с королём-солнцем. Зачем Британии воевать, бесконечно и безнадёжно против преобладающей силы? Почему не принять дружеское, честное и благородное рукопожатие, не поделить триумф и приз? Объединённые Франция и Англия пойдут от успеха к успеху, все троны мира лягут к их стопам. Когда некоторое дело вызревает достаточно, старт, зачастую, даёт чье-то личное вмешательство. Минетта отбыла в Англию летом 1670 года, взяв в свиту вторую чаровницу с заранее назначенной ролью Луизу де Керуаль. Супруг Мадам, опальный человек в политическом затмении, обесчестивший семейный очаг вознёю с миньонами, остался дома и зло ревновал к положению жены, проклиная её в каждый день её путешествия. Но Карл принял гостью с неумеренным восторгом. Он встретил её с флотом, а затем весь королевский двор провёл несколько солнечных дней за кутежом на пикнике в Дувре. Людовик ждал результата в живейшем беспокойстве и получил всё, чего только мог пожелать. Минетта привезла из Франции секретный договор верно составленный, за подписью и печатью. Она вернулась, чтобы немедленно умереть от странной болезни. Она ушла, оставив добытое в трудах наследство орудие, разрушившее дело всей её жизни.
По условиям секретного Дуврского договора, Карл должен был напасть на Голландию вместе с Людовиком, чтобы ни много, ни мало совершенно разгромить Соединённые Провинции и устранить их с европейской сцены, приложив к тому все усилия. Людовик согласился уважать целостность Бельгии и обещал Англии большую часть нидерландских берегов, включая остров Валхерен с ценными портами Слюсом и Кадсаном, а также устье Шельды. Он гарантировал все английские колониальные притязания и морские претензии.[82] Господство на морях, распоряжение голландскими гаванями, эксплуатация Азии и Америк стали для Карла неодолимыми искушениями. Молодому, двадцатилетнему штатгальтеру, Вильгельму Оранскому, принцу стюартовой крови, оговорили почётную, пусть и ограниченную сферу деятельности - наследственное владение над усечёнными останками бывшей Голландской республики; над клочьями дела всей жизни его прадеда Вильгельма Молчаливого. Затем говорилось о деньгах. О крупных субсидиях, что в мирное время и вкупе с наследственными доходами предоставляли Карлу едва ли не полную независимость от воли неуступчивого парламента. Деньги были нужны на содержанок и двор; деньги были необходимы на содержание кораблей - Королевский флот ослаб, остался без ухода, гнил в разорённых гаванях. Так выглядели материальные выигрыши. Но в этом нечистом пакте стояли и другие условия - грязнее грязи, даже и для тех дней. Карл должен был вернуть подданных в католическую веру, честно трудясь ради этого всеми способами и не покладая рук. Договор принимал во внимание все трудности такого предприятия, но его надлежало исполнять, неуклонно и неукоснительно. И, в любом случае, английскую монархию ограждали теперь не только французские деньги, но и французские войска, готовые прийти и встать за Карла, если парламент станет гневаться, а нация бунтовать.
Таким был Дуврский договор, удар женской руки, сделка, омерзительная современникам и всем дальнейшим поколениям. Этот исторический вердикт запечатлён в каждом британском сердце, и мы отнюдь не склонны его оспаривать. Но мы полагаем, что совет Карла II Кабальный совет или Кабаль[83] - охотно прислушался к доводам, отрицавшим искреннее участие страны в голландских интересах; что советники короля легко обосновали и даже оправдали временный переход к оппортунистической, профранцузской политике, тем более к политике очевидно лицемерной. Мы не можем положиться на голландцев: они продадутся Франции в любое время. Испания беспомощна и не имеет средств. Одни мы не устоим перед враждой Великого короля. Возьмём его деньги, отстроим наш флот, затем станем ждать и осматриваться. Если говорить о религии, то Карл прошёл жестокую школу, испытав на себе волеизъявление протестантской Англии. Сам он мог питать какую угодно склонность к католицизму, но, располагая определённым опытом государственного управления, никогда бы не рискнул обратить в папизм всю нацию. Он мастерски маневрировал, уклонялся и вилял, но, расслышав серьёзный ропот, немедленно и с готовностью подчинялся своим подданным и власти неуступчивых установлений Англии.
Секретный Дуврский договор подписали лично Людовик, Карл и их посредница, Минетта. Но, несомненно, Кольбер де Круасси долго работал над статьями трактата, а в Англии скоро поняли, что не обойдутся без помощи Арлингтона. Когда стал готов абрис документа, его мирскими параграфами занялись приглашённые советники: сначала Арлингтон, потом Клиффорд, затем и весь Кабальный совет. Возможно, Арлингтон оказался более податлив, чем это видится со стороны мы, впрочем, не можем измерить всей силы того медленного, постоянного напора, что дал этому человеку полный поворот кругом. Министры тех дней видели в себе слуг короля, тщась уместить его желания в границах, за которыми начиналось преступление против государства, а временами заходя и дальше. Кабаль работал над теми частями договора, что были доверены советникам. Но религиозный заговор другого имени он не заслуживает остался в затворе в глубине королевского сердца. С Джеймсом советовались мало, но он невыразимо радовался и тому, что знал. Наследника особенно радовали религиозные статьи. Теперь он, яснее, чем когда либо, видел благословенную длань Богоматери, простёртую над страдающим миром.
***
В 1672 году любой наблюдатель, кто сумел бы вычислить соотношение сил Англии и Франции пришёл бы к единственно возможному выводу соперничество немыслимо; явная слабость и униженное положение острова с его пенсионным парламентом усугублена немощью разделённой Европы. И никакой мечтатель, никакой романтик, никакой фантаст не смог бы угадать недалёкие и неизбежные события собственной эпохи; никто не предвидел, что вальяжный колосс Франции рухнет в грязь, опрокинутый военной мощью новых коалиций; что маленький остров, начавший собирать владения в Индии и Америке, отнимет колонии у Франции и Голландии, станет одерживать победу за победой, выиграет господство над Средиземноморьем, в Малых Морях, на океанах. Да; и понесёт по истории нетронутые, благословенные дары закона и свободы в своеобразном их соединении; доставит потомкам нажитые собственными трудами учёности и искусства всё современное богатство великого содружества, что первенствует среди народов земных.
И диво это стало достигнуто в совместной работе конфликтующих сил, в преемственных делах череды великих островитян об руку с замечательными заграничными друзьями и наставниками. Мы нашли спасение в прочной независимости Общин, в творцах нашего парламентаризма, в аристократии, в наших провинциальных джентльменах.
Мы спаслись отвагой наших матросов и капитанов, качествами британской армии ей как раз предстоит родиться. Нас спасло преемство здравого, законного политического пути, проторенного гением английского народа. Но все эти силы не помогли бы нам без людей, кто сумели их использовать. Четверть века, от 1688 до 1712 года, Англией водили два наилучших во всей мировой истории воина и политика: Вильгельм Оранский и наш Джон, герцог Мальборо. Они разбили военную силу Людовика, фатально расшатав финансово-экономический фундамент Франции. Они отстояли протестантскую веру, придали законченную форму парламентским институтам, открыли путь в эру разума и свободы. Они вернули Европе гармонию и баланс сил. Они повернули на новый курс судьбы Азии и Америки. Они объединили Великобританию и подняли её до того положения, какое мы занимаем сегодня.
Военная карьера Джона, герцога Мальборо, прошла в два этапа. В первом, длившемся четыре года, он быстро поднялся от прапорщика до полковника, показав миру талант руководителя и иные способности; продвинулся по службе за счёт мнения, что составили о нём все, видевшие Джона в боях. Второй этап это десять кампаний; время, когда он безупречно командовал главной армией Великого союза. И два этих славных периода перемежаются протяжённым разрывом в четверть века. С 1671 по 1675 год Джон предъявил военному миру способности, продвинувшие его от младшего офицера до выдающегося полкового командира. Он поднимался ступень за ступенью, честно и с отвагой. Но затем наступило бесплодное время, время трудов и блужданий. Пришла череда скудных лет. Его постигла судьба, схожая с уделом молодого ветерана Великой войны, кто поднялся из ничего до комбата или комбрига, а потом - после Перемирия - стал вынужден втискивать жизнь в прежние рамки. Его меч никогда не ржавел в ножнах и, будучи востребован, вздымался, сверкающий и острый назовём Седжмур, Валькур, Ирландию. Оно было всегда наготове, это оружие непременной победы; оно было готово служить при всякой представившейся возможности.
Никто не станет отрицать пишет Энтони Гамильтон что фаворит королевской любовницы и брат содержанки герцога получил отличный старт и не мог осечься с фортуной. Но влияние королевской наложницы не объясняет восхода Мальборо. Он продвигался по службе последовательно, с остановками, долго. Он был профессиональным солдатом. И как написала старая герцогиня в конце своей жизни я полагаю, что в продвижении от низшей Ступени к наивысшему положению куда больше Чести, нежели, как это модно сейчас, быть адмиралом, кто видел Море лишь в Бейсоне, или Генералом, не побывав ни в одном сражении.[84]
Джон получил верховное командование, миновав зенит жизненных лет, став старше многих ведущих генералов-современников. Ранний успех, повышение за повышением - о чём написана эта глава - сменился долгими временами застоя. Когда он был на вторых ролях и делал, многократно переделывая, карьеру, ни Арабелла, ни Барбара уже не пользовались особым влиянием. Постоянные испытания, трудноодолимые препятствия, огромный риск, тюрьма и опала, умелая служба, упорнейшая цепкость, настойчивость, сдержанность, почти безошибочное политическое чутьё, искусство придворного, политика и дипломата так охарактеризуем мы второй, промежуточный период его жизни. Долгие годы его ум и известные всем способности не могли выдвинуть Джона из толпы прочно устроившихся знаменитостей, владевших тогда всеми благами земными. В двадцать четыре он стал полковником и только в пятьдесят два принял командование над большой армией.
***
В 1672 году, дремавший до времени Дуврский договор пробудился и возымел действие. Людовик, следуя тщательно разработанному плану, форсировал кавалерией Рейн и повёл армии в Голландию. Дело началось внезапно, без единого повода. Одновременно Англия объявила Нидерландам войну. Генеральные Штаты, де Витт и его амстердамцы, взятые врасплох, не имели на руках ничего против 120 000 вторгшихся французов, вооружённых штыками новейшим для того времени оружием. Города и крепости падали, словно кегли. Голландцы, оказавшись перед истреблением, безнадёжно воззвали к Вильгельму Оранскому. И правнук Молчаливого не обманул их надежд. Он поднялся в твёрдой, неумолимой отваге. Разъярённая толпа на улицах Гааги растерзала на куски Джона де Витта и его брата. Вильгельм воззвал к нации в бессмертных словах: Мы готовы умереть в последней траншее. Открыли шлюзы; солёная вода покатилась ширящимся потопом по опустошённой земле. Казалось, укреплённые города плывут по водам обширного наводнения, словно барки с беженцами. Военные действия стали невозможны. Французы в замешательстве отступили. Голландия, её народ, её флот и её героический принц сохраняли присутствие духа.
***
Тем временем, французский флот соединился с английским, заполучив устойчивое превосходство в Малых морях. Вместе с французскими армиями воевал шеститысячный английский контингент Монмута. Ледьярд и другие старинные авторы предполагают, что Черчилль прибыл на войну с частями Монмута; в действительности, прежде этого, Джон стал участником убийственного сражения на море. Флоты сошлись 13 марта, ещё до объявления войны; дело началось нападением эскадры сэра Роберта Холмса на голландские суда, что пришли из Смирны и стали на якорь у острова Уайт. Вероломное предприятие провалилось, почти всем голландцам удалось уйти. Гвардейские роты, где служили Черчилль и его друг Джордж Легге[85], сели на корабли и приняли участие в этом рейде.[86]
В начавшейся с этого эпизода морской кампании флотом Нидерландов замечательно руководил де Рюйтер. Сначала он действовал в узостях Канала, пытаясь не допустить соединения английского флота с французским. Но герцог Йоркский, выбрав удачный момент для выхода из Темзы, успешно встретил идущий из Бреста французский флот, и Рюйтер почёл за счастье ускользнуть из Канала и выбраться невредимым в Северное Море. Там он ходил между Вальхереном и Текселем, защищая свою страну от вторжения с моря и выжидая случая, чтобы ударить в численном преимуществе. Герцог Йоркский понимал, что если англо-французы пойдут к Доггер-банке (теперь мы знаем эти воды так же хорошо, как и он), они, буде удастся, смогут отрезать голландский флот от домашних портов - как то могло случиться с германцами после Ютланда. Но английскому флоту, обкорнанному парламентом, не хватало запасов и людей; так или иначе, но до похода к коммуникациям врага нужно было получить пополнения. Итак, объединённые флоты пошли Па-де-Кале до Солбея (Соутвольской бухты, что на побережье Саффолка), чтобы подготовиться к дальнейшему предприятию. К Солбею, из Лондона двинулись несколько тысяч моряков, солдат и толпа волонтёров-джентльменов самого высокого общества. Три дня все корабли стояли на открытом рейде, хлопотливо принимая людей, провизию, снаряды. Де Рюйтеру представилась благоприятная возможность для удара.
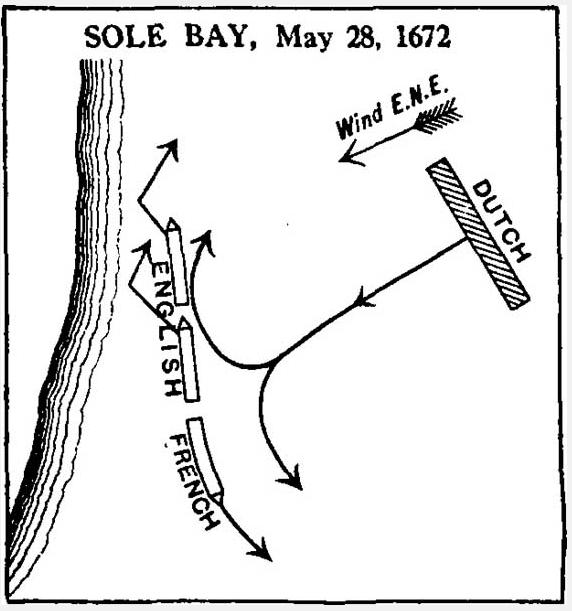
Лорд Сандвич, урождённый Монтегю, человек, именем которого крестит корабли каждое из приходящих поколений, отличался осмотрительностью видавшего виды морского волка. На состоявшемся военном совете он сетовал на позицию и предлагал выйти в море. Предупреждения эти стали приняты в штыки; все посчитали их эксцессом чрезмерной предосторожности. Работы, впрочем, пошли со всей возможной поспешностью. Но утром 28 мая (7 июня) французский фрегат, чудом ушедший от погони, доставил известие, что за ним по пятам идёт весь голландский флот. Все кинулись на борт; сто один корабль поспешно выстроили линию баталии. Французский дивизион под командованием дЭстре взял расходящийся с англичанами курс то ли из-за каких-то соображений политики, то ли из-за нечётких приказов Джеймса. Де Рюйтер отвлёк французов, послал Ван Гента атаковать корабли лорда Сандвича, а сам ударил по дивизиону герцога Йоркского последний остался на стоянке едва ли с двадцатью кораблями. Рюйтер повёл на герцога девяносто один корабль, так что в начале боя голландцы пользовались преимуществом более двух к одному.
Я лучших выберу едва ли
Из списка пушек, тонн, названий
Из всех, кого вёл герцог Джеймс
Наш рыцарь. Он врага побил
Ни пяди он не уступил
Нагие берега прикрыл
От Ривер Блит до Данвича.[87]
Завязалось долгое, тяжкое и беспощадное дело. На саффолкском берегу сгрудились расфранченные зрители, канонада гремела на две сотни миль окрест. Бой шёл на ближних дистанциях с полудня до сумерек. Голландцы отчаянно дрались, бросив превосходящие артиллерию и брандеры против англичан, прикованных к подветренному берегу. Флагман герцога, Принц, стал средоточием удара. На его палубах стояла 1-я гвардейская рота: капитан Дениэлс, дейтенант Пик, энсин Черчилль. К одиннадцати часам, Принц, побитый батареями нескольких голландцев, выметенный мушкетным огнём, успешно атакованный двумя вражескими брандерами, получил такие повреждения корпуса и снастей, что более не мог вести бой как флагман. Герцог Йоркский, выказавший в самой схватке храбрость достойную английского принца и адмирала, вынужденно перенёс флаг на Св. Михаила, а когда, в свою очередь, и тот корабль стал непригоден к бою, перешёл со своим штабом на Лондон. Гвардейская рота осталась на Принце, где погибли и получили ранения двести человек вместе с капитаном, то есть треть команды. Обе стороны дрались с упрямством характерной чертой наших гордых народов. Корабль Сандвича, Роял Джеймс, потерял подвижность, тесно схватившись с небольшим голландским кораблём, кто с великой отвагой вклинился под его бугшприт и стал жертвою брандеров. Сам лорд с группой приближенных офицеров оставался на шканцах, пока языки пламени не сбросили его в море - там он и погиб. Обе стороны ожидали взрыва пороховых погребов. Но погреба Роял Джеймса не взорвались. Он пошёл на дно, успев до того расстрелять весь свой порох. Рюйтер назвал этот день труднейшим среди тридцати двух своих морских сражений; сам он вышел из боя на закате, опасаясь возвращения французов, и ушёл, подорвав ударную силу превосходящего союзнического флота, отвоевав многомесячный выигрыш времени.[88]
До нас не дошло ни слова о делах Джона, счастливо уцелевшего в этом смертельном бою. В его переписке и разговорах нет никаких упоминаний об этом дне. Теперь каждый ведёт дневники и пишет мемуары. Тогда довольствовались трудами дня. Но нам известно, что командование поощрило Черчилля значительным служебным продвижением. В Адмиралтейском полку погибли, самое малое, четыре капитана, и Джон перескочил через ступень, поднявшись от гвардейского прапорщика до капитана морской пехоты.[89]
Лейтенант Эдвард Пик жаловался сэру Джозефу Вильямсону, заместителю Арлингтона:
Мистер Черчилль, бывший моим прапорщиком в сражении, теперь капитан; но я без вашей или лорда Арлингтона милости я останусь лейтенантом, хотя и злейшие недруги не сумеют опорочить моего поведения в этом деле
Затем он пишет:
... если вы обяжете меня со всей присущей вам любезностью, дав мне роту, я, получив продвижение, отблагодарю вас четырьмя сотнями гиней. Сэр, уверен, что мой лорд Арлингтон сможет это устроить, ведь король не откажет ему ни в чём.[90]
Нам неизвестны подробности повышения. Возможно, фаворитизм сказался в прыжке через ступень, но если так, то фаворитизм нашёл резон в исключительном поведении Джона. Жестокие обстоятельства, когда субалтерны стоят под огнём вместе с начальниками, вносят в решения много полезных поправок. Герцог Йоркский, выйдя из кровавой баталии, должен был принять в расчёт то, что увидел сам, и то, что говорили люди о действиях Черчилля.
Флот получил нокаут при Солбее, а средств на ремонт и оснащение кораблей нашлось совсем немного. Пехота и волонтёры-джентльмены сошли на берег; гвардию отправили во Францию. Придворные собрались в Уайтхоле, чтобы отметить боевые дела в пирах и праздниках, а Джон, ушедший от опасности и в блеске нового звания, нашёл, в чём мы не сомневаемся, горячий приём в объятьях Барбары. Охотно верим, что именно она дала Джону нужную сумму на капитанство: звание, добытое мечом, необходимо было и оплатить вдобавок деньгами. Просим читателя извинить нас за этот конфузный факт, но долг велит нам говорить и о грехах того жестокого, лихорадочного времени.
В 1673 году Людовик снова - и опять собственнолично - начал войну. Конде с малыми силами оккупировал север Нидерландов. Тюренн, одновременно, пошёл на имперцев в Эльзасе. Великий король шёл в центре, с главными силами, с цветом французской армии. Его величество покинули Сен-Жермен 1 мая; с ним были королева, мадам де Монтеспан, двор. Ясно, что присутствие королевы должно было закамуфлировать присутствие любовницы, предотвратив скандальные толки. Приличия стали соблюдены; благородное общество двинулось в Турне, где мадам Монтеспан - отправившаяся в путь на сносях - разрешилась дочерью. Счастливое событие приняли с соблюдением всякой пристойности; герой-монарх распрощался со двором, своими дамами, и - взяв одну лишь личную свиту в несколько сотен человек с должным между прочими свитскими числом художников, поэтов и историков - обратился к суровым военным делам, сел в карету и двинулся на Кортрейк. Весь мир гадал, где он собрался воевать. Вскоре выяснилось, что король ищет чести под Маастрихтом, сильной голландской крепостью с гарнизоном в пять тысяч человек. Он считал себя военачальником, подходящим для осад, не сражений: Большие осады мне приятнее всего[91] - это слова самого Людовика. 17 июня французы полностью обложили Маастрихт.
***
Полезно, если мой читатель в этом месте книги получит некоторые сведения о методе и правилах осадных операций того времени - нам, к сожалению, придётся говорить о многих таких делах на этих страницах. Границы Франции и Голландии прикрывала сеть крепостей, великих и малых. Все они были выстроены по правилам Вобана или его голландского соперника, Когорна. Мы зачастую разглядываем планы звездообразных оборонительных сооружений, никак не вникая в явленное нам на бумаге выражение изощрённой военной мысли. Каждый угловой выступ (или равелин); каждый пятиугольник (или бастион) были самодостаточными крепостными сооружениями с должными гарнизоном и артиллерийскими средствами. Каждая оборонительная линия была прочерчена так, чтобы вдоль неё мёл фланговый огонь артиллерии или, по крайней мере, мушкетов, направленных под прямым углом из некоторых соседних амбразур. Вдоль этих стен, повторяя их контур, шёл открытый ров до 20 футов глубиной, до 40 футов в ширину вымощенный камнем; дальний от крепости берег рва переходил в выровненный гласис, а перед гласисом шёл прикрытый проход, зачастую защищённый второстепенными передовыми укреплениями - и все означенные сооружения простреливались сзади, с главной линии обороны. Ближняя к бастиону стенка рва называлась скарп, противоположная, ближняя к осаждающим - контрэскарп. При необходимости, за контрэскарпом отрывались галереи, соединённые с крепостью подземными ходами. Галереи глядели в ров отделанными камнем амбразурами, откуда - в дополнение к фланкирующему огню - в спины вражеского отряда, занявшего ров, могла вестись убийственная стрельба. Так, вкратце, была устроена оборона.
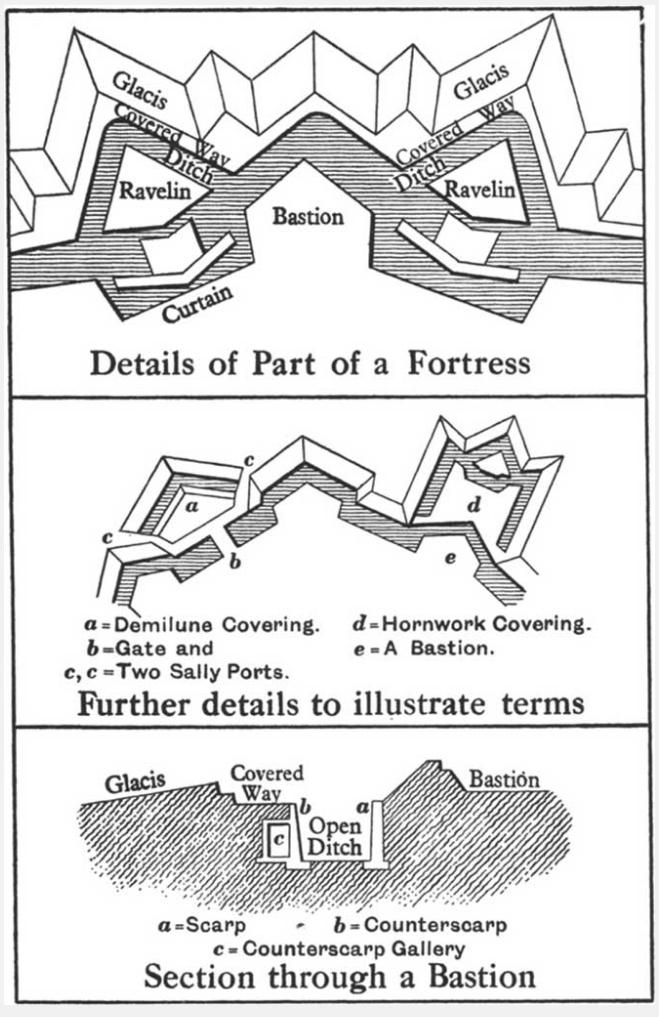
Атака велась по следующим правилам. Прежде всего, крепость обкладывалась - её окружала превосходная по численности армия, отрезая, по возможности плотнее, от внешнего мира. Затем, на выбранной для атаки стороне закладывались траншеи. Как правило, осаждавшие рыли три параллели траншей, первая отрывалась ненамного за пределом дальности огня крепостной артиллерии. От первой параллели прокладывались зигзагообразные подходы - апроши - ко второй; от второй (более резким зигзагом) к третьей параллели. Третья параллель подводила осаждавших к исходному рубежу удара по крепости и даже ближе. Затем подводились мины, шли рукопашные схватки, и галереи контрэскарпа в секторе атаки переходили к осаждавшим, а добрая доля контрэскарпа обрушивалась ими в ров. Тем временем осадные батареи, размещённые во второй или за второй параллелью, прикрытые от вылазок сильными укреплениями и пехотными отрядами, вели многодневный, а зачастую и многонедельный огонь по крепостным сооружениям, подавляя неприятельские орудия, круша парапеты. Затем наступал момент, когда осаждающим открывалась неторная, но непрерывная дорога от первой параллели в крепость или в некоторый разрушенный равелин или бастион.
Осада подходила к критической точке. Масса превосходящих войск, возглавленная обречённым отрядом из добровольцев, собирались в третьей параллели, в иных отрытых рядом щелях, в захваченных галереях контрэскарпа, и, по сигналу, бежали по прикрытому проходу, усыпанному обломками, лезли в брешь разрушенных стен, и врывались в город, взяв штурмом наново выстроенные защитниками баррикады и укрепления.
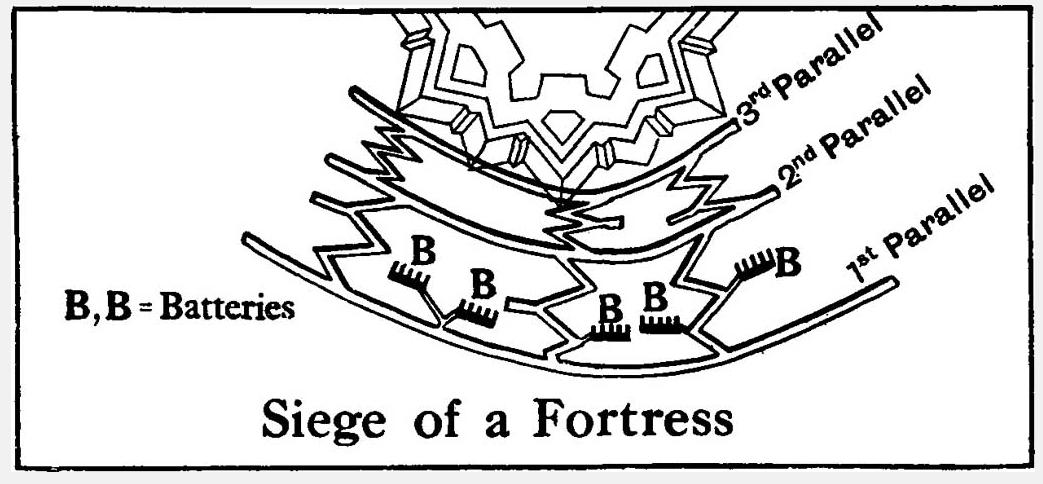
Дело, впрочем, редко доходило до такой развязки. В ходе полустолетней войны, о которой идёт теперь речь, обе стороны руководствовались дотошно разработанным и неукоснительным ритуалом осадных действий. Комендант осаждённой крепости знал, что собственное его правительство, и неприятель не ожидают от него упорства сверх необходимости. Если комендант дожидался штурма, и отбивал его, он - пусть и принужденный затем к сдаче - покрывал себя великой славой. Если он упорствовал в то время, пока осаждавшие пробивали пригодную для штурма брешь, он имел право, не дожидаясь атаки, пойти на сделку, чтобы избежать ненужного кровопролития и торговался за вывод гарнизона на почётных условиях сдачи: с ранцами и обозом, под барабаны, с зажжёнными фитилями, с патронами в зубах и тп.. Город мирно менял хозяина и победители, обыкновенно, обращались с жителями с надлежащей предупредительностью. Но если комендант, чрезмерно полагаясь на фортуну, доводил осаждающую сторону до ненужного штурма, отлично понимая, что не сумеет ему противостоять, и если штурм оказывался удачным, город пускался на поток и разграбление. Тем самым, когда городу угрожала неминуемая осада, коменданту и гражданскому населению приходилось решать щекотливые вопросы, а их поведение в возникших обстоятельствах оценивалось на соответствие точно разработанным правилам - и правила эти превосходно знали и обе стороны и вся военная Европа.
Мы, разумеется, рассказали здесь об осадах семнадцатого-восемнадцатого веков в самых общих чертах. Каждый случай среди многих сотен случившихся на деле осад отличается своими особенностями. Иногда, если вести речь об операциях большого масштаба, на сцене появлялась деблокирующая армия достаточно сильная для того, чтобы прорвать блокаду - а то и побить осаждавших. Парировать такой удар можно было двумя способами. Первый: армия прикрытия, что маневрировала между осадным лагерем и вероятными избавителями осаждённой крепости; второй: осаждавшая сторона окружала себя так называемой циркумваллационной линией - то есть, строила импровизированный рубеж обороны вокруг себя, оставляя в середине обречённый город и - занимаясь осадой внутри - отбивала осаду снаружи. Нам предстоит узнать, как герцог Мальборо осаждал города с чуть ли ни равными крепостным гарнизонам силами, в то время как его прикрытие противостояло деблокирующей армии, ожидая, в любой момент, полевого сражения на равных.
***
Но во время осады Маастрихта не случилось ничего подобного. Событие это походило скорее не на серьёзное военное дело, но на кровавый турнир, где бились друг с другом и рыцари, и вельможи, и рядовые солдаты. Французы пришли в неоспоримой силе, окрест не появилось никакой деблокирующей армии. Вобан дал метод осады, расписав её по шагам, а великий король приписал себе достоинства этого метода. Вобан - скромно объяснил он - предложил мне некоторые шаги, кои я счёл наилучшими. Прежде всего, хозяин велел действовать с благоразумной осторожностью. Никакой спешки, строгая последовательность. Операция должна стать образцовой. Действуем наверняка, проводим все необходимые приготовления. Нас уверяют, что сам он явил пример личной стойкости в испытаниях - несомненно, на час или два ночного или дневного времени; что он время от времени подвергал свою священную персону опасности, становясь под огонь врага. Всё это тотчас обессмерчивалось маститыми французскими поэтами, художниками, граверами, создателями гобеленов.
Мы не знаем в точности, что приключилось с капитаном Черчиллем между Солбеем и осадой Маастрихта. Адмиралтейский полк, где он продолжил кампанию, прибыл во Францию в декабре. В Эльзасе и в гарнизонах, вместе с французами, несли службу разные английские части. Мы можем предположить, что когда выяснилось средоточие войны Фландрия, где армию ведёт сам великий король, - Монмут призвал и даже поощрил немногую горстку отборных офицеров с их персональными оруженосцами оставить свои части и двинуться, под личным его командованием, в огонь главного сражения. Так или иначе, но под Маастрихтом Англию представлял один только герцог Монмутский с дюжиной джентльменов-добровольцев среди них заметен Черчилль - и с эскортом этой компании в тридцать джентльменов из лейб-гвардии. Людовик XIV принял блестящую делегацию со всеми церемониями ведь возглавлял её бастард короля-собрата[92]. Когда подошла очередь, Монмута поставили генералом траншей, предоставив ему и друзьям прекрасную возможность отличиться перед самым современным, придирчивым и модным собранием военных авторитетов. Каждый из ретивой дюжины готов был рискнуть жизнью и стяжать славу на представившейся арене под многими ревнивыми взглядами знатоков войны. Весёлую компанию не тревожил вопрос о праведности или несправедливости этой кампании, они не размышляли над великой задачей баланса европейских сил и мы не сомневаемся, что наш молодой офицер вполне разделял всеобщую беспечность. Боевое товарищество, приключения, надежда добыть мечом славу и повышение застят всё прочее в глазах юности.
Траншеи отрыли на десятый день блокады, ещё неделя ушла на осадные работы, потом начались штурмы. Первый, назначенный на 10 вечера, пришелся на дежурство Монмута. В атаку пошли отборные части лучших полков, в том числе королевские мушкетёры. Сам король наблюдал за предприятием из дальней траншеи. Дали сигнал; впереди французов шёл Монмут с Черчиллем и своими англичанами. Атакующие прошли с тяжёлыми потерями сквозь убийственный огонь в упор, взрывы двух мин и шести тысяч гранат, заняли галереи контрэскарпа и вышли на равелин напротив Брюссельских ворот. Три раза их оттесняли с ложементов, три раза они шли на новый штурм, пока говорят, это сделал Черчилль, на парапете равелина не заплескалось французское знамя. Остаток ночи прошёл за налаживанием обороны и рытьём новых коммуникаций. На рассвете, Монмут передал захваченные укрепления подошедшим войскам поддержки. Наступил пасмурный полдень следующего дня. Англичане отдыхали в палатках, Монмут собирался обедать, когда глухой минный разрыв и яростная стрельба дали знать о контрударе голландцев. Маастрихский губернатор де Фарио, француз на службе Генеральных Штатов, храбро вышел из города во главе своих людей, чтобы отбить захваченные фортификации.
Дальнейший эпизод принадлежит скорее беллетристике, нежели военной истории, но подтверждается многими подробными и подлинными письменными свидетельствами. У нас есть два отчёта в письмах очевидцев к Арлингтону: одно письмо написано Дюрасом, французским гугенотом, знатным вельможей, кто - уже в 1665 году, спасаясь от наступившего ужаса - натурализовался в Англии, став английским подданным. Дюрас, как и Черчилль, был в близких порученцах герцога Йоркского; кажется, наследник относился к нему с безграничным доверием и расположением. Впоследствии он стал графом Февершемом, мы встретимся с ним и позднее, при Седжмуре. Второе письмо (мы будем цитировать из него) отправлено лордом Алингтоном, кто лично побывал в гуще того боя.
Монмут вызвал ближайший отряд: мушкетёрскую роту, и командир этой части, дАртаньян - уважаемый армией офицер, а после герой, обессмерченный романами Дюма, откликнулся немедленно. На рывок по зигзагам ходов сообщения не осталось времени. Де Фарио вошёл уже в равелин. Резвый Монмут бросился в схватку по открытой местности; с ним были Черчилль и горстка знатных англичан с несколькими отважными пажами и слугами. Они успели к равелину с неожиданного направления, в самый разгар боя. Одновременно подоспели дАртаньян с мушкетёрами. Лейб-гвардейцы отбросили карабины (английская служба снабжения выдала после боя двенадцать новых) и взялись за шпаги. Монмут, Черчилль и дАртаньян ворвались в равелин. Здесь мы обратимся к наилучшему отчёту о произошедшем, к письму лорда Алингтона к лорду Арлингтону.[93]
После того, как герцог облёкся для сражения, мы вышли не обыкновенным путём, но перелезли траншейный парапет, обращённый к неприятелю. И с герцогом были следующие лица: мистер Чарльз ОБрайен, мистер Виллар[94], двое сыновей лорда Рокингема, капитан Ватсон со своим родственником, сэром То. Армстронгом, капитан Черчилль, капитан Годфри, мистер Рой и я; ещё два пажа герцога и трое-четверо слуг; так мы пошли с обнажёнными саблями на вражескую баррикаду, по единственно открытому нам узкому проходом. Там был господин дАртаньян с мушкетёрами, кто действовал очень храбро. Названный джентльмен пользовался наилучшей репутацией в армии, он стал упрашивать герцога не ходить дальше, а когда тот не послушался, пошёл вместе с ним, но проходя узким местом, стал убит выстрелом в голову; нам с герцогом удалось пройти, и мистер О'Брайен получил ранение в ноги. Герцог дважды поощрил солдат к мужественному поведению, и вёл их с большой храбростью; когда его сиятельство увидел, что враг отступает, он поддался на уговоры и ушёл в траншею, откуда, должно быть, мог лучше командовать в сложившихся обстоятельствах. Затем он послал господина Виллара к королю за 500 свежими солдатами и с докладом о том, что случилось. Когда указанные люди прибыли, враги ушли прочь, и никак в дальнейшем не покушались на то, что мы приобрели прошлой ночью, так что к пущей славе герцога мы не только взяли больше ожидаемого, но сохранили уже приобретённое, хотя и потеряли великое множество солдат и храбрых офицеров. Одна из их больших минных камер подняла на воздух около пятидесяти человек, когда те готовились к вылазке. И я полагаю, что от времени, когда мы пришли в траншеи до выхода мы потеряли около 1 500 человек. Некоторые командиры из ветеранов говорят, что им в жизни не приходилось видеть столь же отважного и рискованного дела, что наш герцог действовал как не по летам поживший и повоевавший генерал, и король был очень любезен с ним прошлым вечером.
Черчилль был ранен и заработал отличие, сражаясь рядом с Монмутом. Мы знаем, что Людовик XIV похвалил его при всех, на большом параде, пообещав доложить английскому королю об отличном поведении Джона. В этой схватке дрался и другой субалтерн, чьё имя появится на страницах нашей истории: Луи Гектор де Виллар, бросившийся в бой вопреки приказу. Но храбрость искупила неповиновение. Мы не знаем, свели ли они знакомство под Маастрихтом. Но, определённо, Черчилль и Виллар встретились при Мальплаке.
Население Маастрихта настоятельно требовало, чтобы губернатор, пока не поздно, сдался на капитуляцию и Фарио, удовлетворившись оказанным уже сопротивлением, пошёл на переговоры и выговорил отход из города со всеми воинскими почестями. Жестокие потери штурмового отряда, в особенности среди заметных персон, произвели сильное впечатление в осадном лагере и среди вовлечённых в дело придворных. Людовик наградил и обласкал Монмута за несомненное геройство, не упуская, впрочем, и политического соображения. Лучшая в мире армия оказала Монмуту и всей его команде безмерные почести. Недолгая и эффектная кампания закончилась. Людовик вернулся к взволнованному двору; придворные курили ему фимиамы лести во многочисленных приветствиях, составленных с истинно французским мастерством. Армии ушли на зимние квартиры, а Монмут со своей охотничьей партией снова вернулся в распростёртые объятия Уайтхола.
Черчилль в те дни пользовался замечательным успехом. Монмут хвалил его Карлу как храброго человека, кто спас мою жизнь. К словам этим можно подписать мрачное продолжение. Король, к тому времени подпал под полное обаяние чар Луизы де Керуаль, но не желал осчастливить Барбару отставкой от своей персоны - скорее по долженствованию, нежели из привязанности - так что Черчилль удостоился умеренного одобрения. Англии удалось разделить лавры Маастрихта без тревог, расходов, потерь на содержание экспедиционных сил.
Капитан Черчилль и герцогиня Кливлендская вернулись к благоденствию в придворном кругу. Любовный союз молодого, возмужавшего офицера с красивой, чувственной, аморальной женщиной вполне извинителен для человеческой природы. Она была старше, но такая разница в годах не бывает помехой. Наоборот: очарование тридцатилетия с особой силой действует на пылкую, двадцатитрёхлетнюю юность. Мы не приглашаем читателя аплодировать таким отношениям; некоторые сочтут их непозволительными, особенно для военного времени; но только злонамеренные найдут в них несмываемую вину молодого офицера. Постыдно и лицемерно, как это делает лорд Маколей, видеть дурное и грязное в проявлениях неодолимой силы, что рвётся из огненного горнила самой жизни! Непостоянная Барбара нежно любила своего молодого солдата, тревожилась за него, внимательно следила за многими его приключениями среди огня и стали. Он отвечал ей самой пылкой любовью, со всей страстью юности. Она была богата и могла ответить деньгами. У него не было состояния, одна лишь шпага да перевязь. Но они были ровней, одного рода, жили в одном мире. И она родила ему ребёнка.
Современники состязаются в описании её прелестей. По всем отзывам, Барбара была средоточием невыразимого очарования. А Джон, пригожий и благородный человек, лучился теперь светом надежд на будущее. Зачем же искать что-то за очевидной силой, что свела и удерживала их вместе? Зачем рядить их роман в позорную личину корыстной нечистоплотности? Естественно, что она желала помочь ему тем, в чём Джон нуждался более всего; естественно, что она давала ему деньги, и гордилась своими дарами. У берегов Англии ходила война, воздух, время от времени, бередил гром вражеских пушек. Любовь вздымалась и требовала в скорбном присутствии смерти, что бродила неподалёку от новопроизведённого капитана гвардии. Он, служивший на суше и на море под выстрелами врага, не испытывал никаких стыда и унижения, когда брал из её рук скромные суммы, необходимые для дальнейшей карьеры и производства, что стоили денег. Конечно, и, несомненно, дела их шли бы куда лучше, когда Джон был бы богат и непорочен, а Барбара осталась бы верной супругой Роджера Палмера. Потому что союз их навлёк на Джона неодобрение - пусть более и формальное - но никак не фавор верховной власти. Король расщедрился на единственное пожалование, отправив нахального соперника в шедшей на ущерб привязанности на фронт, в действующую армию. Но Джон был готов извлечь из такой награды все возможные выгоды.
Он вернулся на фронт ранней осенью. Адмиралтейский полк перешёл под начало Тюренна, в Вестфалию. Капитан Черчилль, по всей видимости, прослужил там до конца 1673 года и успешно нёс службу, хотя и без больших дел. Широко известна история о тюреновом пари: противник выбил отряд из плохо обороняемого прохода, а некоторый красивый англичанин побился, что возьмёт для штурма вполовину меньше солдат, нежели было в отряде, оборонявшем и упустившем позицию, и отберёт с ними дефиле - и выиграл пари, в точности исполнив обещание. Никто не указывает ни даты, ни места этого случая, но, так или иначе, свежепроизведённый капитан Адмиралтейского полка стал заметной персоной в тюреновой армии и заработал высокую репутацию у самого маршала ещё до конца года.
Карл в течение некоторого времени соблюдал условия секретного Дуврского договора. В интересах - как то возглашалось - общественного согласия, король издал Декларацию о веротерпимости, предоставив католикам свободы, в коих было отказано протестантам любой из стран, где господствовал католицизм. Денег от Франции вполне хватило бы на содержание флота мирного времени, но для ведения дорогостоящей войны субсидий Людовика категорически недоставало. На финансах сказались две большие битвы на море, Солбей и Тексел, страна нуждалась в огромных средствах на восстановление флота. Тяжкой ношей стал даже и шеститысячный контингент во Франции. Дошло до того, что король издал знаменитый Запрет на выплаты из казначейства, отказав своим кредиторам - ювелирам и банкирам - в выплате законного процента. Каникулы парламента затянулись на пятнадцать месяцев: пора было созывать Палаты к работе.
Соответственно, в феврале 1673 года некогда энтузиастический Кавалерский парламент собрался в настроении настороженной тревоги. Благодаря мистеру Грею, коммонеру от Дерби, мы располагаем бесценными записями тех дебатов. Общины объявили, что любые расходы станут вотироваться лишь при условии немедленного отзыва Декларации о веротерпимости. До времени они не стали возражать против войны с Голландией. Министерская инвектива в адрес Нидерландов, оглашённая Шефтсбери в духе Карфаген должен быть разрушен нашла молчаливое одобрение. Судя по всему, героическое зрелище протестантского сопротивления Людовику не побудило коммонеров к действиям. Они остались сторонниками трона в этом вопросе, потому что морская война вновь приняла опасный оборот, и морское соперничество с Голландией не нашло никакого разрешения. Гнев их поднялся против прокатолических склонностей королевской власти. С другой стороны, Людовика XIV более занимала победа над голландцами, нежели судьба английских католиков. Посол Франции в Лондоне получил инструкции: напутствовать Карла, что тот может уступить, отозвать Декларацию, и даже согласиться на Тест-Акт, отлучающий папистов от всех государственных должностей. Карл согласился, и общины вотировали обильное ассигнование в 1 200 000 фунтов.
Тем временем, в Англии, люди стали поглядывать на герцога Йоркского с подозрительным вниманием.
Всюду шёл слух о его обращении в римскую веру. Как он пройдёт присягу по новому Тест-Акту, принятому для изгнания папистов из всех государственных учреждений? Ответ не заставил ждать. Наследник трона ушёл со всех постов, командование флотом перешло к князю Руперту. Так подтвердился стойкий папизм Джеймса, пожертвовавшего всеми материальными благами ради позорной для его подданных веры. Потом засочились подозрения и откровения о секретном Дуврском договоре. Лето и осень 1673 года прошли в перешёптываниях о короле, о его брате, министрах, о его намерениях привести Англию к Риму.
Более того война шла плохо. Зачастую, в начале военных действий, всё кажется простым и удобоисполнимым. Но всегда есть другая сторона, со своим взглядом на вопрос, своими замыслами, часто неожиданными, со своими шансами на победу. Открытые шлюзы оборвали французам первую кампанию. В 1672 и 1673 годах голландцы великолепно дрались на море. Бои Руперта против Рюйтера стали кровавыми и нерешительными. Нидерланды воспрянули. Во главе Соединённых Провинций теперь на деле соединённых встал принц Оранский, штатгальтер и главнокомандующий. В августе, Империя и Испания, обеспокоенные нарушением европейского баланса, заключили союз с Нидерландами, а англо-французский альянс провалился в военном и дипломатическом смыслах. И в довершение всего, Карл II дал герцогу Йоркскому согласие на вызывающий, предосудительный брак с католической принцессой, Марией Моденской.
В Блэкхете, потом в Ярмуте, собралась десятитысячная регулярная армия под командованием француза - шли многие толки, что силы эти предназначены для насильного обращения Англии к папизму. Дела наши пришли в достаточный порядок, так что поступление субсидий из-за Канала безошибочно отражалось и прослеживалось по состоянию франко-английского биржевого курса. И когда парламент собрался в октябре, все фракции единогласно потребовали мира с Голландией и разрыва союза с Францией. Самые буйные оппоненты требовали и отставки министров. Но к этому времени Кабаль успел сам по себе распасться на составные части. Члены его удерживал вместе один лишь принцип веротерпимости, одинаковый для католиков и диссентёров. Теперь парламент сознательно отверг этот принцип и, очевидно, развернул политический курс. Клиффорд, судя по всему, католик, нанёс Кабалю решительный удар, отказавшись пройти присягу, подал в отставку, удалился в свои поместья и умер - так скоро, что люди говорили о самоубийстве и сердечном припадке. Арлингтон стал лордом-камергером и отказался от всякой власти при дворе в угоду спокойному, богатому бытию. Эшли - вскоре граф Шефтсбери - и Бакингем пришли к соглашению с вигской оппозицией - собственно, они, пуритане, исходно были выходцами из этих кругов. Теперь они, отчасти виновники ошибочной политики Карла, возглавили атаку на короля. Напротив, Лодердейл, на кого пали первые удары, выжил и продолжил умелое истязание Шотландии.
Начался новый акт; более того - наступила новая эра. Король стал всё более полагаться на нового человека: сэра Томаса Осборна; тот стал бароном и, в июне 1673 года, сменил Клиффорда в должности лорда-казначея. У Осборна были пять титулов, но он звучит в истории одним, полученным год спустя: граф Денби. Пламенный Кавалер, родом из Йоркшира, Денби собрал около себя большую, хотя и неустойчивую фракцию в Общинах. Он, более иных политиков тех лет считал дело Англии своим собственным делом. Во многом, граф походил на типический образ Джона Булля. Равно нерасположенный к католикам и диссентёрам, Денби стремился привести нацию к трону старым роялистским призывом: За Церковь и Короля. Он лично руководил Общинами, но не тем лишь способом, что предполагает согласованный с большинством политический курс, а откровенным подкупом некоторых коммонеров - впоследствии сэр Роберт Уолпол довёл этот метод, до совершенства. Король расходился с Денби в вопросах союза с Францией и католического наследования, но полагался на него и вполне понял, что кроме дворцовой партии и министров трону нужна организованная фракция в Общинах. Денби вёл дело твёрдой рукой. Король же, постоянно и безудержно, вращался с приливами и отливами словно корабль на якорной цепи, так что нос и пушки этого флагмана вскоре развернулись в противоположном направлении.
Мир, при посредничестве Испании, был подписан 19 февраля 1674 года. Упрямые по обыкновению голландцы уступили горькой нужде и дали полное удовлетворение морским амбициям Англии. Через шесть лет после Медуэя, через два года после Солбея, в год кровавых схваток гордого Рюйтера с Рупертом, Нидерланды, со всем изъявлением покорности, приняли доминирование Англии на морях. Генеральные Штаты подтвердили условия Бредского договора (1667), повторно согласившись приспускать флаг и топсели перед любым английским кораблём к северу от мыса Финистерре. И дело шло не лишь о встречах голландских флотов или эскадр с равными силами Королевского флота - весь флот Нидерландов обязан был кланяться и одному английскому кораблю, даже самому маленькому, если тот нёс королевский флаг. Книги по истории, подробно говорящие о нашем позоре на Медуэе и Темзе, не отдают должного произошедшей тогда перемене ролей. Политика Карла II была груба, аморальна, беспринципна, но он теперь мог с полным правом сказать: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Мир освободил финансы страны от невыносимого напряжения. Продолжавшаяся тем временем континентальная война предоставляла Англии много выгод как торговцу и перевозчику к услугам обеих сторон. В страну пошла голландская контрибуция. В два года Денби спас Англию от банкротства. Пользуясь оживлением торговли, приростом таможенных доходов и акцизных сборов, освободившись от гигантских военных издержек, министр сумел ублаготворить короля. Он размахивал во все стороны топором экономии, он поставил флот на прикол, он распустил большую часть армии. Администрация Денби - а она стала именно администрацией, в терминах современного парламентаризма, первой администрацией такого рода в Англии, сумела ответить народным чаяниям лучше, нежели это случается сегодня, после всеобщих выборов.
Король испытал великое облегчение. По сути, он, на какой-то момент, стал конституционным сувереном с популярным министром, несущим всю тяжесть государственных дел. Но по мере того, как спадало внутринациональное напряжение, в стране усложнялась внутриполитическая жизнь. Ни король, ни министр не доверяли друг другу полностью, политический курс их разнился. Карлу не была чужда некоторая совестливость, некоторые соображения джентльменства, зазвучавшие со временем в его отношениях с Людовиком, кого английский король, как это ни называй, обманывал. Открытый разрыв с таким опасным потентатом был чреват многим, Карл не желал рисковать. Последний конфликт с Голландией называли беззлобная война. Нельзя ли уйти от Франции, по меньшей мере, без невежливости? Карл заботился о том, чтобы оставаться в постоянных сношениях с королём Франции, в особенности в том, что касалось субсидий; время от времени он подписывал с ним какие-то маловажные секретные соглашения, главным образом для того, чтобы подлатать недействующий в исполнении Дуврский договор. Например, временами, Карл, по настоянию Людовика пополнял британские отряды, служащие на французском жаловании или исполнял просьбы подобного рода, считая вопиющим неразумием разрыв контракта с Парижем в угоду полному политическому повороту кругом.
Следом наступил период некоторой интерлюдии: король развил свой метод до политического шантажа, а объектами вымогательства стали и парламент и Людовик. Денби в полном согласии с Оранским принцем вёл дело к разрыву с Францией. Однако Людовик, невзирая на все прошлые разочарования, считал, что покупка нейтралитета Англии стоит трудов и денег. Король Карл был неподражаемым мастером подобных игр. Он получал ассигнования от Общин, говоря им: Если мы хотим вражды с Францией, нам нужно привести в порядок армию и флот: дайте мне денег. Он говорил Людовику: Если, вашим небрежением, я стану зависим в средствах от Общин, они заставят меня стать на сторону голландцев: дайте мне денег. И обе стороны платили ему, и платили щедро; король же не делал ровно ничего в удовлетворение тем и этим. Ему платили, а он не продавался - о Карле можно сказать те же слова, что стали сказаны спустя столетие о Дантоне.
Король прекрасно ладил со своим министром - на деле, даже слишком, что сказалось на фортуне последнего. Управление, силою вещей, приняло вид некоторой диархии, где отчётливо разделившиеся власти трона и парламента пришли ко взаимоподдержке, взаимодействуя со многими компромиссами и оговорками, и, несмотря на многие трения, часто предпринимали некоторые согласованные шаги. Министры следовали общему правилу: повиновение королю и солидарная ответственность за все королевские решения, пока, при любых обстоятельствах, таковая ответственность не ставит под удар собственные их головы. Денби не вёл непосредственной переписки с французами и пусть, по обыкновению того времени, он устилал пёрышками собственное гнездо, и приглядывал за многочисленными родственниками, приставляя каждого к месту, сам он не брал денег от Людовика. Тем не менее, он тащил ношу французской интриги - дела с Парижем были неотъемлемой частью самого основания его успешной политики. Он уступил королю в его привычке брать у французов деньги. Он даже подписывал по королевскому приказу счета на значительные суммы. Монтегю, английский посол в Париже, подстрекал к дальнейшему. Теперь время просить у французов: они не откажут вам ни в чём - такими были его наставления. Когда поднимались многие подозрения и толки, Денби привычно отвечал с самой превосходной наглостью. В сущности, он говорил важным конфидентам так: Возьмём деньгами с амалекитян; возьмём с французов втридорога. Они не получают взамен ничего. Карл, со своей стороны, вполне верил, что этот двойной торг может продолжаться до бесконечности. Он по прежнему пытался умерить амбиции Людовика, говорил тому о мире с Голландией. Он расписывал тяготы собственного положения, предупреждая короля-собрата о том, что платежи должны быть крупными и приходить пунктуально, иначе он станет вынужден воевать с ним. Он тратил деньги, полученные от парламента на укрепление королевских военных сил, якобы для войны с Францией. Так шли дела в 1676 и 1677 годах.
В 1674 году на французском жаловании служили шесть тысяч английских войск; теперь, после заключения Англо-Голландского договора, число их стало сокращаться: многие военные вернулись домой. Лондон не слал подкреплений, полки поредели; вскоре пришлось составлять из них сборные части. Полк Скелтона слили с полком Петерборо. Петерборо подал в отставку. Кто должен занять его место во главе сводного полка? Конечно, замечательный офицер, водрузивший французские лилии на бруствер маастрихского равелина; человек, известный во всей французской армии; герой, обласканный Людовиком на поле боя; тот, чьё продвижение станет приятно и Карлу, и герцогу Йоркскому, и любимым дамам обоих этих особ. Новостной парижский бюллетень от 19 марта 1674 года:
Полк лорда Петерборо, расквартированный во Франции, будет расформирован и несколько его рот войдут в новый полк вместе с гвардейскими ротами, что отбыли прошлым летом; новый полк, впредь до распоряжений, останется во Франции под командованием капитана Черчилля, сына сэра Уинстона.[95]
Но чтобы получить звание полковника, Черчиллю необходимо было личное разрешение Людовика: итак, ему предстояло явиться в Версаль, на аудиенцию к великому королю. И Джон поехал в Париж с письмом от Монмута к Лувуа: Монмут разъяснял военному министру Франции подробности готовящегося слияния полков. Лувуа ответил Монмуту 21 марта, выразив благодарность и согласившись с назначением Черчилля полковником французской службы; вдобавок, министр предложил передать новоназначенному полковнику не только роты от Скелтона, но и роты полков Саквиля и Хьютсона.[96] Само назначение состоялось 3 апреля; Джон Черчилль стал полковником французской службы и командиром английского пехотного полка.[97] Ему было без малого двадцать четыре года. Он перепрыгнул лейтенантское звание после Солбея; теперь он служил Франции, перепрыгнув через звание майора, а заодно и подполковника. Но независимо от французского звания, Джон оставался капитаном английской армии, и только в январе 1675 года стал подполковником полка герцога Йоркского. Судя по всему, он приобрёл значение в глазах французского двора. Год назад Джон побывал в Версале с дюжиной английских товарищей-офицеров на пути под Маастрихт. Теперь, во второй раз, великий король принял поклоны юного Адониса в ало-золотых одеждах: Людовик знал о нём всё; все подвиги этого юноши под знаками Марса и Венеры доходили до короля по официальным каналам. Но если бы Людовик умел заглянуть под покров будущего, то, несомненно, не впустил бы эту грациозную, элегантную фигуру в круг королевского света.
Аткинсон, тщательно и точно, как ни один иной историк изучил скудные записи о делах Черчилля между 1674 и 1677. Удивительно, но даже он сомневается в том, что Черчилль сражался в битве при Зинсхайме. Но сомневаться в том не приходится. Мистер Хеар, со временем капеллан герцога Мальборо, впоследствии епископ Чичестерский, сопровождал герцога в нескольких кампаниях. Мальборо лично читал хорошо известный журнал Хеара: теперь эти записи остались одним из немногих бесспорных письменных свидетельств. Описывая кампанию 1704 года, Хеар указывает, что 15 июня герцог вёл наступление на Зинсхайм: несомненно памятный ему по 1674 году, когда он командовал в этих местах английским полком, сражаясь под началом великого полководца маршала Тюренна в памятной битве с имперскими генералами, герцогом Лотарингским и графом Капрара.[98]
Отрывок этот общеизвестен. Он подтверждается рукописным, обнаруженным во французских военных архивах, описанием дела при Зинсхайме[99]. Судя по указанному манускрипту, Черчилль служил тогда не в собственной части, но - как и под Маастрихтом - был волонтёром при пехотном полку Дугласа и, перед началом битвы, принял участие во французской рекогносцировке.
Как то известно, мы не имели сведений о вражеской армии у Гейдельберга, и полагали, что дирекция на неприятеля лежит много правее, в сторону Баденского маркграфства. Дугласу немедленно приказали идти вперёд с 1500 мушкетёрами и 6 орудиями. На третий день после выхода из Хагенау он подошёл к Вислоху, что в трёх часах от Гейдельберга, держа направление на Хейльброн; с ним были господин де Монгайяр и мистер Гамильтон, мистер Черчилль и господин Дювивье, квартирмейстер Лангедокского полка, последние как волонтёры.
Отряженный на рекогносцировку полк соединился с Тюренном 15 июня, а 16 июня армия в полном составе пошла на Зинсхайм, на левый берег Эльзенца. Тюренн захватил город, форсировал реку и начал сражение. Бой шёл семь часов; противник отступил с тяжёлыми потерями. Дело закончилось без стратегического результата, но претендует на миниатюрную, образцовую демонстрацию искусства Тюренна в управлении тремя родами оружия. Потом маршал проделал разные манёвры, получил подкрепления и пошёл разорять Пфальц: отчасти для пополнения собственных запасов, отчасти чтобы помешать недобитому неприятелю, если тот решит вернуться в эти места[100]. Экзекуция Тюренна стала следствием военной необходимости и её следует отличать от планомерного разорения той же провинции семь лет спустя, по приказу Людовика, из политических соображений.
У нас есть письмо старой дамы вдовы Сен-Джаст одной из немногих жителей, кто не пострадал от тюреновых жестокостей в 1674 году. Леди пишет герцогу Мальборо из Меца, 16 июля 1711 года.
Мне невозможно забыть вас, монсеньор, и моя непременная обязанность поминать в каждый оставшийся день жизни любезность, что вы оказали мне в Меце, тридцать четыре года назад.[101] Вы были тогда очень молоды, монсеньор, но всё уже было при вас все превосходные черты - отвага, обходительность и властность; то, что по справедливости подняло вас теперь до высшего командования. И самое замечательное, монсеньор, что все люди на свете, друзья и враги, стали свидетелями этой истины и могут удостоверить слова, что я имею счастье теперь писать; не сомневаюсь, что обязана вашему благородству [тем, что случилось через несколько времени], когда солдаты, палившие всё окрест Мезре, не тронули ничего моего, говоря, что так приказано высшим начальством.[102]
Не отозвалось ли это письмо некоторым приятным воспоминанием, удержавшимся надолго в цепкой памяти Черчилля? Вспомнил ли он, как тридцать четыре года назад уберёг один крохотный надел с маленькой усадьбой от ужасов войны? Мы того не ведаем. Но мы полагаем, что вдова ошиблась с датами. Возможно, конечно хотя имеются противоречащие сведения что Черчилль, по какой-то военной надобности был в Меце в 1677 году. Возможно; но, скорее всего, письмо ссылается на 1674 год, когда солдаты на самом деле палили всё окрест Мезре.
Неоспоримо, однако, что Черчилль воевал во главе своего полка во время октябрьского сражения при Анцхейме. Известны все мрачные подробности этого кровопролития. О деле при Анцхейме написано одно из сухих писем Джона к Монмуту и мы располагаем как этим документом, так и подробным описанием боя: его оставил свидетель, Дюрас, будущий лорд Февершем. У Тюренна было десять тысяч конницы и двенадцать пехоты против вдвое превосходящих сил врага. И всё же он перешёл реку Брюш и неожиданно атаковал имперцев. Сражение решалось в так называемом Маленьком лесу, что лежал на правом французском фланге, между армиями. Ход главного дела зависел от того, кто овладеет лесом, и этот пункт стал ключом к сражению. Опытный французский полковник Буффлер его имя ещё появиться на этих страницах, в некоторых напряжённых моментах нашего повествования пошёл с драгунами очищать лес от неприятеля, но не сумел продвинуться и оставил задачу пехоте.
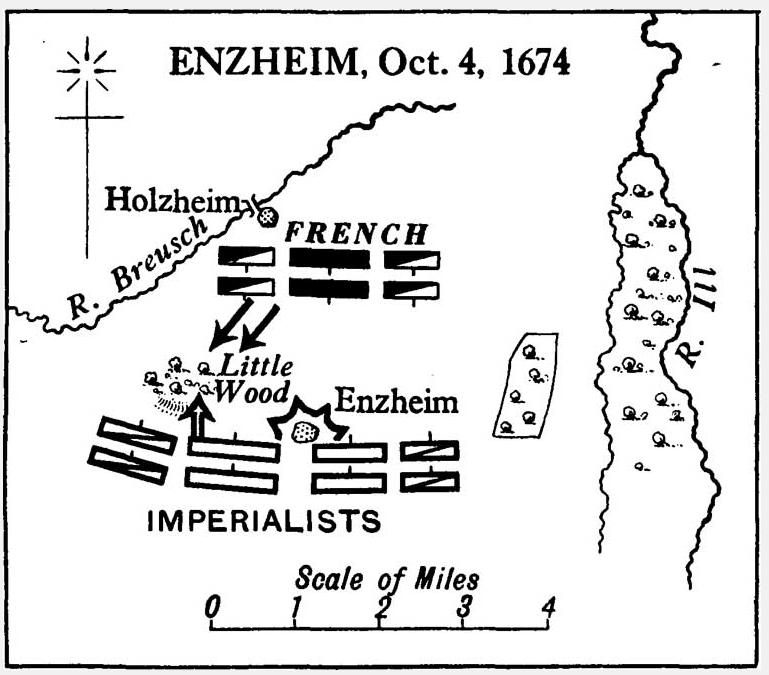
Обе стороны начали втискивать батальоны в лесной массив. Французы редко жалели свою кровь, но никогда союзническую и вся тяжесть тюреновой баталии легла на наёмные войска. Батальон Донгана из Ирландского полка Гамильтона, третий батальон монмутовых Роялистов и батальон Черчилля по очереди пошли в огонь. Дюрас (будущий лорд Февершем) пишет: Все без исключения творили чудеса. Перечисленные части понесли тяжелейшие на всём фронте потери. Батальон Черчилля, вошедший в дело последним, потерял в Маленьком лесу половину офицеров ранеными и убитыми. Прочие островные наёмники терпели так же тяжко - и там, и по всему полю боя. Три эскадрона кавалерии Монмута ударили по имперцам, атаковавшим левый французский фланг и выручили союзников в критический момент, стяжав славу и погибнув почти поголовно. Тюренн оставил за собой поле, стал там лагерем и объявил, что это победа над сильно превосходящими силами, и что его стратегия нашла подтверждение. Но битва эта должна быть внесена в длинный список кровавых и нерешительных.
Февершем пишет в докладе правительству: Ни один командир в мире не сумел бы справиться с делом лучше Черчилля и господин де Тюренн отменно доволен действиями всех наших соотечественников. Сам Тюренн отметил Черчилля и его батальон в донесениях. Это был трудное, жестокое дело, никак не вяжущееся с интересами Англии. Приводим здесь полностью рапорт Черчилля Монмуту - документ открывает нам некоторые черты личности Джона. Здесь нет велеречивости и отступлений. Это неприкрашенное, строгое изложение обстоятельств дела - факты, что должен узнать по службе Монмут. Но сдержанность тона не мешает полковнику негодовать на дурное использование его солдат, на кровь, потраченную в иноземной сваре.[103]
25 сентября/5 октября, 1674.
4-го числа этого месяца господин де Тюренн предложил врагу сражение, но они не захотели выступить с занимаемой позиции, чтобы атаковать нас, хотя и были намного сильнее, так что мы стали вынуждены атаковать их сами, предприняв для того всё возможное. Враг встал так, что по его фронту был лес, в тылу - деревня, и господин де Тюренн распорядился, чтобы 8 наших батальонов и драгуны выбили неприятеля из леса; мы дошли до леса, враг выставил вперёд батарею из 5 орудий, мы побили их, захватили пушки, затем оттеснили пехоту на 100 ярдов за лесистый участок, так что заняли место для развёртывания конных эскадронов, каковое развёртывание и было проведено; вместе с конницей мы продолжили наступление, и выбили неприятеля с отличной траншейной позиции; когда дело было сделано, господин де Вобрун, один из наших генерал-лейтенантов приказал нам остаться в обороне, не делая ни шагу вперёд, объяснив, что мы шли вперёд весь день и более наступать не будем. Половина нашей пехоты оказалась расположена так, что совсем не могла сражаться. Батальон вашего сиятельства участвовал в атаке, вместе с двумя - моим и Гамильтона, и мы потеряли великое множество офицеров, Гамильтона, его брата, некоторых иных из его полка. В вашем батальоне убиты капитан Касселс и Ли, двое ранены. У меня убиты капитан Диллон, капитан Пиггот и Тут ранены; лейтенанты Батлер и Мордант и энсин Донмер ранены, а лейтенант Уатт, Ховард, Такер и Филд убиты. Со мною было 22 офицера, я доложил вашему сиятельству об 11-ти. Но конному нашему полку пришлось куда хуже, так как у них убиты подп. Литтлтон, капитан Греме и Шелдон и четыре корнета с несколькими лейтенантами. Майор, капитан Кирк и большая часть офицеров, кто не были убиты, получили ранения, погибли более половины полка и несколько знаменщиков. Не отважусь хвалиться победой, но, достоверно скажу: враг покинул поле одновременно с нами. Мы захватили три орудия, несколько знамён, некоторое число пленных. Деревня, где состоялся бой, называется Вальдхайм.
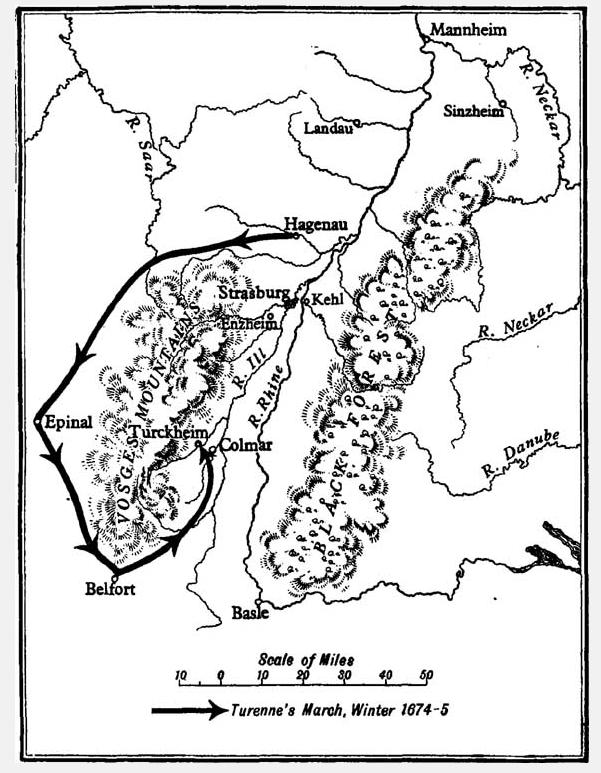
Черчилль, вероятно, был на хорошем счету в армии и до этой битвы. Мы находим его среди пятисот человек, отобранных Тюренном для атаки на арьегард имперцев, когда те переходили Рейн. Но пока его персона привлекала лишь мимолётные взгляды. Множество других, прочно забытых теперь людей, действовали не хуже. О нём можно сказать лишь то, что Джон исполнял свой долг и заработал прочную репутацию в обременённой тяжёлыми делами, но всё же победоносной армии. Он, несомненно, ходил и в зимнюю атаку на Туркхайм. В те дни войска оставались на зимних квартирах с октября по апрель, поскольку одно лишь состояние дорог обрекало их на бездействие; но Тюренн, выйдя из Агно 19 ноября, ворвался на зимние квартиры имперцев, вырезал некоторые, отдельные части, и добился затем отличного успеха в день Рождества. С Тюренном ходил и полк Черчилля. Дюрас и другие английские офицеры загодя получили увольнительные в Париж но это была часть тюренова плана, маршал притворялся, что окончил кампанию до следующего года. В письме от 15 декабря говорится, что Черчилль на днях приедет в Париж, но он, определённо, остался в войсках.[104]
Обыкновенно говорят, что он выучился военному делу у Тюренна; некоторые тщатся сравнивать атаку под Анцхеймом через реку Брюш с наступлением при Бленхейме через Небель. В таких рассуждениях немного смысла. Всякий современный Тюренну офицер имел возможность обогатиться опытом, наблюдая за действиями этого невозмутимого гения. Но ни одно сражение не повторяется дважды. Командир не добьётся победы, следуя правилам и примерам. Военный успех складывается из нешаблонного, своевременного осмысления главнейших фактов и из учёта всех действующих на поле сил. Повар готовит блюда по книгам, врач лечит, пользуясь предписаниями, но каждая из великих военных операций уникальна. Изучение тактики тех или иных военачальников тренирует ум, но одного изучения тактики недостаточно: нужно мыслить особым образом, охватывая умом всё бранное поле, досконально разбираясь в реалиях происходящего. Всем отлично ведомы военные планы героев прошлого, но их буквальное исполнение в новых, изменившихся условиях вернейший путь к неудаче. Анцхеймское письмо никоим образом не выказывает восторгов в адрес Тюренна. Напротив, автор жестоко критикует организаторов атаки против заведомо превосходящего неприятеля в лаконичном: Половина нашей пехоты оказалась расположена так, что совсем не могла сражаться. И критика эта приобретает особый вес под пером Черчилля, кто отлично умел придерживать при себе нежелательное иному слуху мнение, тем более остерегался доверять такое бумаге. Мы не знаем, какие дела - кроме вышеописанного - пришлись на его долю в этих кампаниях. Но он, человек вошедший в сознательный возраст, должен был много размышлять о войне, и, разумеется, нашёл обильный материал для размышлений, наблюдая войну вблизи, в исполнении одного из величайших мастеров современности; а ответственное - пусть и второстепенное - положение, предоставило ему возможность изучить действительную службу во всех подробностях.
В начале семидесятых годов, в английском придворном созвездии засияла новая звезда. Френсис Дженнингс прекрасная Дженинс Граммона прекрасная, как Утренняя заря или предвкушение весны, надменная, учтивая, умеющая владеть собой девушка поступила в услужение к герцогине Йоркской. Скоро вокруг неё завились множество почитателей. Сам герцог поощрял девицу благосклонными взглядами, но стал учтиво и твёрдо отвергнут. Недоступная и незапятнанная, она сияла в этом беспечном, падком на удовольствия обществе.
Отец Френсис, Ричард Дженнингс из Сандриджа происходил из Сомерсетшира; фамилия его издавна имела гербовый щит, но получила фамильный герб лишь при Генрихе VIII. Одно время они обитали в Хартфордшире, около Сент-Олбанса, в Холивел-хаусе, на берегу реки Вер. Нам известно, что в 1625 году дедушка Френсис был шерифом графства Хартфордшир и как потом и сын его, Ричард - неоднократно проходил в палату общин от Сент-Олбанса. За семьёй числились земли в Хартфордшире, Сомерсетшире, Кенте, а их угодья по тем временам могли давать по 4000 фунтов в год. В течение ста лет, сомерсетширское поместье Черчиллей что очень забавно в свете последовавших событий входило во владения Дженнингсов.
О вдовой матери Френсис говорят разное. В Сомерсетширских письмах говорится о вашей благородной матушке. А в Новой Атлантиде она трактуется как ведьма: знаменитая Мамаша Шиптон, устроившая дочь при Дворе силой и властью своего магического мастерства. Определённо, женщина эта имела скандальную репутацию, страдала от собственного буйного нрава и, поселившись при дворе, нашла в Сен-Джеймском дворце укрытие от злобных кредиторов, кто рыскали вокруг, вооружившись судебными решениями.
В 1673 году, Френсис ввела в придворный круг сестру, Сару, девочку 13 лет от роду. Младшую Дженнингс назначили в то же семейство к герцогине Йоркской. Девочка росла и к пятнадцати годам созрела в очаровательную, развитую не по летам девицу. В ней не было ослепительного блеска сестры, она лучилась собственным сиянием: красавица с льняными кудрями; голубыми, живо искрящими глазами; чистым румяным личиком; хорошо очерченным, привлекательным ртом; точёным носиком с некоторой задорной курносостью. Уже в нежные годы она отличалась хладнокровной самоуверенностью, а потом, по мере взросления, сказалась наследственность, и в девушке забурлил темперамент дьяволицы.
К концу 1675 года она танцует с Джоном Черчиллем на всех балах и званых вечерах. Он, разумеется, был знаком с Сарой и раньше она ведь работала в Сен-Джеймсе но однажды, в конце года, в один из вечеров с танцами они полюбили друг друга. Это не была страсть с первого взгляда, но любовь с первого узнавания. И это стало навсегда; за всю доставшуюся им жизнь никто из них не любил потом никого третьего, хотя Сара ненавидела очень многих. Ухаживание стало долгим и трудным. Сара взрослела, наливаясь красотой, властностью, и со взрослением её развивался, начиная выказывать себя и характер волевой, по-женски лукавый, по-мужски предусмотрительный.
Вскоре она рассорилась с матушкой. Миссис Дженнингс и её дочь, фрейлина герцогини пишет в письме современник
поссорились так сильно, что даже и подрались; и молодая особа пожаловалась герцогине, что уйдёт, если родительницу не выгонят из Сен-Джеймса, где последняя нашла кров, спасаясь от кредиторов; так что старшей, посредством сэра Эллина Эпсли, было предложено удалиться, а та ответила со всей готовностью, ибо никогда не перечила приказам герцога и герцогини, но, по соизволению Божьему, заберу с собою и дочь. Итак, чтобы избежать расставания с дочерью, матушку оставили на месте, снова погасив все её долги.[105]
Но дело тем не закончилось; спустя месяц появляется следующая запись:
[Госпожа] Сара Дженнингс одолела свою матушку, коей велено покинуть двор, оставив дочь при дворе; заявление матери о том, что она заберёт дочь с собой, успеха не возымело, девушка назвала её сумасшедшей.
Но после свершившегося выселения, отношения между матерью и дочерью поправились; кажется, они вполне ладили между собою, проживая порознь.[106]
Таковы доставшиеся нашему времени первые письменные свидетельства о молодой леди: теперь она входит в жизнь Джона Черчилля и ей, в конечном счёте, достанется большая - огромная для особы не королевской крови роль в английской истории. Странно, но при всех поисковых прожекторах, обращённых на биографию Сары Дженнингс, мы не знаем в точности, где она родилась; не знаем ни места, где она вышла замуж за Джона; ни дома, где она восьмидесятилетняя миллионерка, фигура со всемирной известностью отошла к Богу. Сонм её биографов обмениваются длинными аргументами пытаясь прийти к согласию в этих простейших вопросах. Впрочем, она, вероятно, умерла в Лондоне, и сама полагала, что родилась в Сент-Олбансе, всегда называя это место своим родным городом.
В Бленхеймском дворце сохранилась пачка тридцати семи любовных писем: корреспонденция Джона и Сары за трёхлетний период, от 1675 до 1677 года. Ни одно письмо не подписано; ни одно, самым досадным образом, не датировано. Все, кроме восьми писем его. Сара писала мало, коротко, сердито, почти злобно. Конечно, это не полный её эпистолярий. Были и другие, многие, и как можно предположить нежные, не в пример сохранившимся, письма. Но, судя по всему, Сара намеренно сохранила только свои воинственные послания. Она просила Джона уничтожить всю её корреспонденцию; наверное, он послушался, и до нас дошла лишь пачка из тридцати семи писем: все её письма в копиях, его - в оригиналах. В старости, герцогиня Мальборо несколько раз распаковывала и перечитывала эту пачку. Собственные письма Сары собственноручно ею индоссированы: Копии некоторых моих писем к мистеру Черчиллю, когда я была ещё не замужем & не старше 15 лет. Герцогиня наказала, чтобы после её смерти, бумаги стали бы переданы старшей прислуге, Грейс Ридли, - она была кем-то вроде секретаря Сары - с приказом сжечь их, не читая. Мы видим надпись, сделанную дрожащим старческим подчерком свидетельство того, что Сара перечитывала письма в 1736 году. И ещё одна надпись, за год до смерти: Прочла в 1743, намеревалась сжечь, но не могу этого сделать.
Пусть сам читатель судит об этой переписке.[107] В первой связке одни только письма Джона.
Джон - Саре.
* Душа моя, я так переполнен любовным нетерпением, что яви милость - раз уж тебя не будет сегодня в Уайтхоле, позволь нам увидеться днём. Не стану назначать времени, но дай мне счастье повидать тебя всё равно в какой час. Ты есть и навсегда останешься драгоценным смыслом всей моей жизни: ведь я, ей-богу, никогда и никого больше не полюблю.
* Я только пришёл, и не ищу удовольствий, кроме одной лишь встречи с тобой. Посему надеюсь, что ты пришлёшь мне весточку и назначишь на вечер свидание.
* Вчера я страдал сильнейшей мигренью и был так плох, что никакие силы не смогли бы вытащить меня из дому одна только встреча с тобой, потому что весь мир мало значит для меня перед тобою. И если у тебя нет иных занятий, прошу позволения прийти в восемь.
* Я вообразил, что ты уже проснулась, и осмеливаюсь поэтому узнать как ты себя чувствуешь? Если твоей ножке лучше, дай мне радость встречи этим вечером в гостиной. Молю, дай о себе знать, ведь если я не с тобой, утехой мне одни твои письма.
* Душа моя, это так горько быть против воли там, где нет надежды на встречу; слово чести я очень тосковал прошлым вечером, и теперь заклинаю тебя: будь добра ко мне, удели мне эту неделю, зови на свидания так часто, как только сумеешь; ведь я теперь приневолен ждать [на этой придворной службе]. Верю, что всё у тебя хорошо и что мы увидимся этим вечером.
Время раннее, но я пишу это письмо, опасаясь, что тебя ушлют на сегодня из дворца, так что день этот станет для меня очень длинным, если ты, по недостатку расположения, не ответишь. Но надеюсь, пусть ты и должна идти к миссис Фортни, что ты одета к вечеру, так что мы сможем увидеться в гостиной. Молю, черкни пару слов, пока не ушла. Ты должна написать, ведь я люблю тебя всеми сердцем и душою.
* Говорю тебе честно и без обмана: я только что узнал о твоей болезни - причиной тому мой собственный недуг, я ведь и сам был нездоров. Надеюсь, вчера ты оставалась в постели и совершенно поправишься к этому вечеру и если так, надеюсь отлучиться, чтобы прийти к тебе в восемь; послушай, мы не виделись целую вечность. Я люблю тебя так, что совершенно ярюсь, не имея надежды увидеть моего милого ангела, так что молю черкни мне слово, дай мне блаженство вечерней встречи, а до восьми я, душа моя, брошу все дела и займу себя одними нежными мыслями о тебе.
* Я так занемог вчера, на весь день, что хотел найти кого-то, кто написал бы для меня, но желая непременно увидеть тебя, терпел и ждал. Если этим днём ты будешь у миссис Беркли или где-то ещё, где я могу увидеть тебя, я приду в который час, дай знать.
* Надеюсь, ты будешь настолько мудра, что предпочтёшь собственное здоровье обязанностям перед герцогиней, и воздержишься на сегодня от прогулки с ней в пять утра.
Надеюсь, ты уже можешь без опаски вставать с постели, а значит, и увидеть меня после обеда; ведь я, ей-богу, люблю тебя всем сердцем, и нет мне радости помимо тебя. Я невообразимо люблю тебя, но потерпи, потерпи всего одну неделю и увидишь, как я твёрдо и впредь стану избегать всякой оплошности.
Если твоё счастье находит основание в моих благоговении и обожании, ты, должно быть, счастливейшая из всех живущих, а сам я никогда прежде не поднимался до таких высот любви. Я так люблю тебя, что твоё счастье мне куда дороже собственного; и если наши встречи не нужны тебе или огорчают тебя, обещаю, что никогда больше не стану настаивать на свидании. Я счастлив твоим счастьем, и надеюсь: вдруг ты подумаешь однажды обо мне, искренне любящем; вдруг сообразишь, что можно дать мне без всяких хлопот; надеюсь, ты окажешь мне такую милость то есть дашь знать, что я лучше всех прочих; а я поклянусь в ответ, что никогда не посмотрю ни на какую другую, лишь на тебя, дорогая моя завоевательница; ты держишь меня так, что даже пожелав, я не нашёл бы сил разорвать эти оковы. Молю, дай мне знать о себе; дай мне радость вечернего свидания.
Прошлым вечером я был на балу, надеясь увидеть ту, что дороже жизни, но тщетно: тебя нигде не было; так что я пробыл там не больше часа и ушёл. Я было сел за письмо, но побоялся разбудить тебя и не стал тревожить.
Непременно ответь, какой из двух щенков лучше и бери его; сука их больше не кормит. Им уже по три месяца, так что они выживут, если поить тёплым молоком. Молю, дай знать о себе и позволь прийти к тебе вечером. Заклинаю, если ты ничем не занята, позови меня [поскорее], потому что без тебя нет мне радости.
Теперь мы увидим, как на их светлый путь упала тень. Мы не можем объяснить причины было ли это мимолётное облачко или существенная помеха? Мы не знаем причины, не знаем даже и года. Должно понять, что эта переписка затянулась на тысячу дней и счастливо уцелевшие исписанные клоки бумаги открывают нам лишь крохотную часть соприкосновения двух молодых жизней.
* Прошлым вечером я остался в гостиной и ждал, что ты вернёшься; я не желал и не мог уйти один, с потерянной надеждой, не повидав тебя снова: душа моя, я ждал и думал о том, что ты не любишь меня, и не было мне сильнее страдания; но теперь я надеюсь, что ты никогда больше не обойдёшься со мною так дурно. Я ничем не заслужил такого, ведь я хочу лишь одного - любить тебя до конца дней. И если ты дорожишь моей любовью, разреши мне видеться с тобой почаще, так часто, как сможешь; поверь, я нахожу в тебе новое очарование с каждым свиданием, так что не злись и не слушай всякую ложь, что распускают обо мне честью клянусь, что не просто люблю тебя, а люблю по гроб жизни. Молю, найди время до церковной службы и пришли мне записку, пока не успела отправиться в храм.
* Прошлым вечером я провёл час с лишним в опочивальне, ожидая тебя в каждом, кто появлялся в дверях, а потом пошёл к миссис Бронли, и увидел у неё миссис Моуди[108], и последняя сказала, что ты осталась с сестрой, и не появишься этим вечером; тогда я пошёл в Уайтхол, чтобы узнать у герцога, что ты не появишься и там и мне незачем стало оставаться в Сен-Джеймсе. Потому что я хотел увидеть тебя и только тебя, и буду любить тебя беспредельно и вечно. Умоляю, дай о себе знать и благослови этот вечер свиданием. Надеюсь, тебе пришёлся корсаж; уверяю тебя, что второго такого нет во всей Англии.
* Паж лорда Маргрейва пришёл, чтобы сказать, что они ждут меня; но я не двинусь с места, пока не справлюсь о твоих делах, и не узнаю, будешь ли ты у миссис Беркли и могу ли я туда прийти: если нет скажи, ведь я никогда не стану делать ничего, что ты не дозволишь.
* Душа моя, после того, что случилось, я ушёл с тяжёлым как никогда сердцем. Я люблю тебя всем сердцем и душою и пока я жив, ты не найдёшь никакого повода в том усомниться. Если ты станешь недобра ко мне, я не смогу жить так сильна моя [к тебе] любовь; ведь ты жизнь моя, душа моя, ты всё, что я имею; ты - единственное, что я ценю во всём мире; так что не будь неблагодарна и не молчи в ответ на письма. Простое милосердие требует не только отвечать, но отвечать нежно, во имя спокойствия моей души. Если бы я умел подобрать нужные для изъявления такой любви слова, ты не смогла бы отмолчаться от писем, орошённых моими слезами, но полюбила бы меня так, как я, клянусь, обожаю тебя.
И чтобы показать, как ложно ты честишь меня, осмелюсь попенять тебе на тебя же: ты отвернулась от меня и ушла из герцогининой гостиной со всевозможным презрением. Пусть мне и было больно, но я не стану больше сетовать на такое поведение, раз оно тешит твой весёлый нрав. Я не могу понять, что ты вообразила у герцога, когда сказала, что я смеюсь над тобой: я не делал ничего подобного и только стыд удержал меня тогда от рыданий. А [что] до поспешного бегства в парк после твоего ухода, я простоял там минут пятнадцать, поверь мне, в полном беспамятстве. Там, в Уайтхоле, ты сказала, чтобы я больше не приходил, так что я дважды наведывался к герцогу с чёрного хода но не нашёл миссис Моуди; а когда пришёл к милорду Дюрасу, то не остался со всеми, а снова вышел через чёрный ход и ушёл пешком, приказав коляске ехать следом, желая увидеть свет в твоём окне, но света не было. Если бы ты прочла в моём сердце, то не сказала бы жестоких слов о том, что я не люблю тебя, потому что несмотря ни на что я люблю тебя и только тебя одну. И если я могу ещё надеяться на блаженство вечернего свидания, дай мне знать и поверь, что я истинно счастлив лишь рядом с тобою.
Так проходило время; пламенные ухаживания затянулись на целый год и, должно быть, заняли большую часть следующего года. Сестра Сары, Френсис, успела отвергнуть многих воздыхателей, отмеченных знатностью и даже королевским родством, и стала женой лорда Гамильтона: приятного, достойного, но хворого человека. Сара, в преддверии семнадцатилетия, осталась предоставлена самой себе. Она выгнала прочь матушку, а человек, страстно любивший её, и любимый ею всё не отваживался на решительное слово.
Тем временем возобновилась война. Немногие сохранившиеся записи о жизни Джона Черчилля в 1675, 1676 и 1677 годах непротиворечиво отрицают дальнейшее его участие в континентальных боях.[109] Его имя не отыскивается в описаниях военных операций. В мае 1675 года, бывший полк Джона, поредевший без свежих пополнений, влили в Королевский Английский полк Монмута. Это недвусмысленно указывает, что Черчилль не воевал в кампании того года ни с Тюренном, нигде.[110]
В августе мы находим его спешащим в Париж. Мы можем лишь догадываться о цели этой поездки. В 1673 году Джон стал постельничим герцога Йоркского. 9 августа 1675 года, французский посол в Англии отправил Людовику XIV отчёт о встрече с Джеймсом: герцог испрашивал у французского короля срочную субсидию в помощь брату деньги освободили бы Карла от нужды созывать парламент.[111] Учитывая, что через четыре года Джеймс послал хорошо известного в Версале Черчилля в Париж ровно с такой же просьбой, можно допустить, что и в 1675-м Джон отправился во Францию, чтобы подкрепить на месте прошение своего господина. Дату отъезда Черчилля из-за границы можно выяснить по выписанному разрешению на беспошлинный вывоз из Франции серебряного блюда.[112] В сентябре 1676 года мы видим Джона в Лондоне, в составе военного трибунала, чинившего суд над офицером за покушение на плимутского губернатора. Всё сказанное говорит в пользу того, что Черчилль провёл эти годы главным образом при дворе, постепенно втягиваясь в дипломатическую работу и занимаясь своими обычными обязанностями в хозяйстве герцога.
В конце 1675 года, герцог Монмут разгневался на подполковника своего Королевского Английского полка полк тогда действовал против голландцев вместе с французской армией и предложил Людовику XIV заменить подполковника Черчиллем. На это же место претендовал и Джастин МакКарти, племянник герцога Ормонда; он тогда прапорщик состоял при Февершеме в дни осады Маастрихта. Французский посол Куртен доложил Лувуа о самом деле вместе с дотошной и пикантной историей любовных приключений Джона. Военный министр ответил, что Черчилль, кажется, слишком падок на дам, чтобы отдавать все свои силы полку. Он - добавил Лувуа - найдёт лучшее удовлетворение у богатой и увядшей прелестницы, нежели у монарха, кто не желает видеть в своей армии бесчестных и обесчещенных паркетных офицеров. Куртен, однако, объяснил, что Черчилль куда способнее конкурента; пост без дальнейших колебаний предложили Джону - и сам Джон отверг назначение. Мистер Черчилль здесь посол уже не пересказывает старые сплетни, но точно свидетельствует предпочёл не идти подполковником в полк Монмута, но остаться слугой очаровательной сестры [Сары Дженнингс] леди Гамильтон.[113]
Отчётливо видно, как в этом примечательном периоде жизни Черчилля, страсть к Саре пересиливает прочие искусы: амбицию, предприимчивость, барыш. Можно, равным образом, предположить, что он не захотел служить Франции исходя из более широкого соображения. Не исключено, что именно в то время он начал проникаться настроением многих англичан-современников: неприятием агрессии Людовика XIV против протестантской Голландии. Под Анцхеймом он видел, сколь щедры французы на кровь наёмных солдат. Не лучше ли отдыхать в тени с Амариллис, нежели быть французским попкой? Так или иначе, он отверг предложение. Марс спасовал перед Венерой безоговорочно, но не навсегда.
В том же, 1676 году, сэр Уинстон Черчилль с супругой озаботились привязанностью сына к Саре Дженнингс. Они не видели для сына карьеры помимо женитьбы на деньгах. Красивый юноша-герой вполне мог на это рассчитывать. Родители выбрали ему партию Катарину Седли, дочь и наследницу сэра Чарльза Седли, человека, известного своими умом и богатством. Катарина, как и Джон, служила у герцога Йоркского. Девица умела располагать к себе особыми средствами: ею не обольщались, но восхищались, одновременно побаиваясь. В конечном счёте, после краха матримониальных надежд родителей Черчилля, она, в некотором смысле, поменяла местами шафера с женихом, и стала любовницей герцога Йоркского. Девушка исповедовала стойкий протестантизм, выказывала неприкрытое презрение к священникам и папистам, но герцог увлёкся ею на несколько лет; кажется, в эти годы Катарина оказывала решительное влияние на ход политических дел. До нас дошли некоторые из её острословий. Когда, после революции, при новом дворе, королева Мария стала обращаться с нею пренебрежительно, Катарина жестоко попрекнула венценосицу, сказав: Припомните, мадам: пусть я нарушила одну из заповедей вместе с вашим отцом, но чтите ли вы теперь отца своего, соблюдая другую заповедь?
Говоря о любовницах Иакова II Арабелле, леди Беласис, себе самой Катарина отметила с завидной беспристрастностью: Не знаю, что он нашёл в нас. Ведь мы дамы невзрачные, а если какая из нас и отличалась умом, он не имел своего, чтобы это заметить. В общем, девица эта отнюдь не была пустым местом, и могла принести в приданое кое-какие достоинства помимо отцова состояния.
Должно быть, Сара быстро разобралась в этой брачной махинации. Как Джон приспособился к наступившим обстоятельствам, как это откликнулось в любовной их переписке, нам неведомо. Определённо, сэр Уинстон с супругой убеждали сына серьёзнейшими, практическими аргументами, присущими многим подобным беседам во многих семьях. Мы можем вообразить некоторую часть этих доводов.
Ты ступил на подножие карьерной лестницы. Ты успел подняться на несколько важных ступеней. Каждый скажет, что у тебя большое будущее. Каждый знает, что у тебя нет ни пенни, только рента да жалование. И зачем рушить будущее ради пустой прихоти? Катарина Седли более чем достойная партия. Эта девушка не уступит никому, в любом окружении. Герцог внимательно слушает её речи, весь двор смеётся её остротам. Она повсюду принята. Красота женского ума в глазах зрелого человека - ничуть не уступает телесной. Сэр Чарльз несомненно богат; он солидный, основательный человек с превосходными поместьями, обширными акрами, скверным здоровьем и единственной дочерью. Если за тобой окажутся его состояние и её дальновидность и юмор, ты позабудешь все тревоги, гложущие теперь твою жизнь; всю бедность, что с тобою от рождения. Ты не склонишься ни перед кем, твоя карьера станет верным делом.
Затем, ты и вправду думаешь, что эта маленькая Дженнингс станет тебе хорошей спутницей? Она ещё дитя, едва перешедшая половину твоего возраста, но уже вулкан и мегера. Посмотри, как она помыкает тобой как лакеем. Ты рассказал нам достаточно о ваших отношениях то же говорит и весь двор чтобы мы поняли: она просто оскорбляет тебя, крутит тобою, как хочет, ради самопрославления. Разве она не говорила имяреку на прошлой неделе, что может заставить тебя делать и то, и сё, и что угодно? Прислушайся к словам поживших людей: если бы у неё оказались все деньги Катарины, мы всё равно отговаривали бы тебя от этого глупого шага ради твоего же душевного спокойствия. Такой выбор совершенно не вяжется с твоим характером, он противен твоим экономным привычкам ты никогда не вводил нас в расходы и жил собственными средствами со всей твоей разумностью и заботой о будущем. Ты предполагаешь сделать глупость, но мы уверены, что на такую глупость ты не решишься никогда.
Подумай, наконец, о ней. Ты вправду думаешь осчастливить её таким браком? Она пришла ко двору по хорошей протекции. Она не идёт в сравнение с сестрой, но может рассчитывать на жениха из пэров. На того же графа Линдсея, кто даст ей прекрасное положение. Он очень к ней внимателен. Разве её удовлетворит рай в шалаше? Зачем ей обременяться тобой, деревенщиной, и уйти с тобою на дно? Поверь, сын: я, твой отец, - так вполне мог говорить сэр Уинстон ограбленный Круглоголовыми, отлучённый от родовых земель за лоялизм, переживший тяжёлые времена. - Я ничего не могу дать ни тебе, ни твоей невесте кроме уголка у нас, в Минтерне. Ты знаешь, каково нам там живётся. Как она примет это? У нас, на деле, никогда ничего не было кроме гордости. Теперь тяжёлые времена. И лучших не предвидится. Пустившись в это дикое предприятие, ты разрушишь её жизнь и свою собственную; отяготишь всех нас невыносимой, как теперь понимаешь, ношей. Я собираюсь к сэру Чарльзу на следующей неделе. Он о тебе высокого мнения. Он слышал о тебе от французов. Они говорят, что среди молодёжи нет лучшего мастера сухопутной службы. Я, самое большее, командовал ротой кавалерии, а ты, не дожив и до половины моего возраста, почти генерал. Но ты ведь не собираешься помимо прочего бросить и военную карьеру?
Насколько Джон уступил отцовым настояниям? Он не был образцом добродетели. Всё вокруг тонуло в коррупции, при интригующем дворе цвёл брачный рынок. В те дни, родители Англии строили судьбы своих детей на французский манер наших дней. Возможно, что сам Уинстон был помолвлен в четырнадцать или пятнадцать лет и прожил затем долгую и счастливую жизнь в браке. Но мы не верим, что Джон отказался от своего намерения, хотя бы временно. Определенно, устояла и его любовь. Он, несомненно, взвесил все опасности выбранного курса, тревожась о будущем. Главною чертой его ума была дальновидность. В самом цветении юности пишет Маколей он любил барыш больше вина и женщин. И всё же, больше всего на свете он любил Сару. Но как им жить в браке? Вот вопрос жестокий, леденящий, банальный, неумолимый; вопрос, бьющий всю его мудрость, цепенящий его язык.
А положение Сары, узнавшей о брачных негоциациях, видящей в любимом отстранённость и подавленность, было самое скверное. Её прозорливый женский глаз застолбил Джона в собственность раз и навсегда. Теперь объявившиеся житейская мудрость и материальные соображения грозили оторвать его от неё. Между влюблёнными стали расти барьеры, но тут вмешалась истина правота её намерений и это спасло всё. Мягкое обращение с Джоном могло окончиться для Сары фатальным крахом. И она развернула против него несокрушимый, сверкающий байонетами фронт. Она пустилась в крайности, переходя от изъявлений совершенной любви и полного единения к насмешкам и яростным выпадам, выказывая эмоции редко встречающейся силы. Несомненно, что время от времени, такое публичное самоистязание становилось для неё невыносимым. На Сару обратились десятки пытливых, понимающих взоров. Над муками её надсмеивались; посол Франции написал глумливое письмо о Джоне и Саре для версальских сплетников:
* В прошлую пятницу необыкновенно похорошевшая сестра леди Гамильтон явилась на маленький бал у герцогини Йоркской с намерением не танцевать, но устраивать истерики. Её кавалер, Черчилль, сообщил, что, снедаемый чахоткой, он должен ехать на здоровый воздух во Францию. Хотел бы я иметь такое же здоровье как этот немощный. По-правде, он бежит из-за интриг. Отец толкает его к женитьбе на одной своей родственнице, очень богатой и крайне уродливой, и не одобряет брачных покушений сына на мисс Дженнингс. Говорят, младший Черчилль к тому же и немало алчен; я слышал от разных придворных леди, что он изрядно обобрал герцогиню Кливлендскую, передавшую ему по меньшей мере 100 000 ливров. Говорят также, что он порвал с ней, и теперь она пытается вызвать его во Францию, чтобы восстановить отношения. Если Черчилль пересечёт Канал, она сумеет устроить связь заново. Пока же она пишет герцогине Сассекской любезные письма, заклиная последнюю удалиться с мужем в деревню совет, подсказанный собственным опытом.[114]
Так пишет Куртен. Примем в расчёт его известное пристрастие к скандалам и вкус к острому: но здесь он открывает нам вполне определённое положение вещей. Письмо датировано 27 ноября 1676 года. Мы видим, что отношения Джона и Барбары прекратились; что Черчилль-старший заставляет сына жениться на Катарине Седли; что Джон терзается по Саре, но, понимая всю свою нищету, не решается на сватовство; что она негодует на его нерешительность, страдает в соперничестве, мучается неопределённостью, претерпевает от сплетен. Мы видим всё её великолепие в затянувшемся испытании. Мы единственный раз на этих страницах видим, как Джон замышляет бегство с поля брани; от непроглядных при всей его проницательности трудностей. Верно говорят о тернистом пути истинной любви. И, тем не менее, в следующей главе, путь этот приведёт влюблённых к их сокровенному желанию.
Мы подошли к деликатному моменту повествования как Джон освободился от герцогини Кливлендской? Несомненно, что к концу 1676 года он бросил Барбару ради Сары. Покончил ли он как это говорится со старой привязанностью прежде новой любви? Или картина его жизни переменилась обыкновенным ходом вещей, когда один образ уходит, исчезая, в тень, а другой оживает в яркую отчётливость? У нас нет недостатка в слухах и скандалах, но нет никаких свидетельств. Безусловно, что замужняя дама, разделённая с мужем, несчастливая в браке, откровенно безнравственная и при двадцатилетнем любовнике должна быть готова к дням, когда молодой её друг возымеет серьёзные намерения; когда ему, пресыщенному, прискучат чары и ласки прежней подруги; когда он, повинуясь таинственным требованиям мужской души, обернётся к союзу не временному, но вечному и пожелает накрепко и навсегда повязать себя всеми узами природы и веры. Должна быть готова, но Барбара приняла наступившую неизбежность очень болезненно и после недолгой попытки сойтись с драматургом Уичерли, уехала из Англии навсегда, устроив свой дом в Париже. Там она стала близка с уже названным здесь послом Англии Монтегю и некоторые последствия этой связи станут, своим чередом, упомянуты на страницах нашего повествования.
Но мы не можем покончить с этой темой, не обратившись к миссис Менли. Говоря о смене Черчиллем привязанности, она многоречива там, где молчат достоверные источники. Она определённым образом освещает места, где меркнут светильники правды. В своих шедеврах, Новой Атлантиде и Королеве Заре, Менли описывает разрыв Джона с Барбарой в двух историях, причём одна противоречит другой. Новая Атлантида: Черчилль, устав от герцогини Кливлендской и воспылав любовию к Саре Дженнингс, находит для себя лучший выход в нарочно разработанной уловке.
Он убеждает некоторого лорда Менли говорит явную нелепицу о лорде Дуврском некоторого лорда, молодого человека, пылкого воздыхателя Барбары, пожить в своих покоях. Однажды, после ванны, скудно одетый лорд лежит на кушетке так, что лицо его скрыто, и, очевидно, спит; в комнату входит Барбара, намереваясь встретиться с Джоном. Свидетельница Маколея, миссис Менли, утверждает что леди, поражённая телесной красотою молодого лорда, обнимает его, а тот, через непродолжительное время подаёт голос, оповещая даму о том, что он, в некотором роде, чужой мужчина. Лорд изумляется; тут же стучат в дверь. Ворвавшийся Черчилль выказывает должное возмущение и предаётся подобающему гневу. Он объявляет Барбару непостояннейшей из женщин, кою не желает больше видеть, и, в тот же день, ведёт к венцу предмет герцогининой ревности - Сару Дженнингс. Так он ухитряется уйти от Барбары. Такова первая история, поведанная миссис Менли.
Второй и иной сюжет появляется через несколько лет в Королеве Заре[115]. Интрига та же, но факты противоположны. Персонажи поменялись местами и даже поменяли пол. Сначала говорится о том, что Сара глубоко любит Джона. Она встречает его на балах и вечерах; Джон так обворожителен, он так ловко танцует, что каждый шаг его разит наповал. Матушка Сары, выведенная миссис Менли как опытная женщина с дурной репутацией, приходит на помощь, проникшись дочерниным чувством. Она искусно сводит Сару и Барбару. Барбаре очень нравится молодая девушка, она никак не подозревает в ней соперницу; однажды, герцогиня приглашает Сару в свои апартаменты роскошные покои, где, повинуясь обычной обязанности, привычно принимает короля. Сара приходит, и так как хозяйка запаздывает - сманенная на сторону под каким-то предлогом - устраивается в покоях, именно в кровати, сняв, для лучшей уверенности, платье. И снова и вдруг дверь открывается - это Джон с обычным визитом к Барбаре. Поражённый и очарованный неприкрытыми красотами Сары, он немедленно признаётся во всепоглощающей любви. Затем и снова дверь отворяется: на этот раз появляется матушка и, в свой черёд, отдаётся возмущению. Убеждённо говоря о том, что дочь её навеки скомпрометирована; настаивая на том, что своими ушами слышала, как Джон признавался в любви; она требует, чтобы молодой человек немедленно женился на Саре, усматривая в том единственный способ к предотвращению дочериного унижения, и вернейший для Джона способ тотчас и навсегда порвать узы, связывающие его с Барбарой. Будущий главнокомандующий приведён в замешательство; миссис Дженнингс, не теряя времени, посылает за священником и тот, появившись словно из под земли, исполняет брачный обряд. Современный читатель, привыкший к голливудским фильмам, предвидит уже последний акт этой пьесы: появление герцогини Кливлендской, её гнев по мере приходящего прозрения и осознания - возлюбленный женился на сопернице в собственных её апартаментах, куда разлучница попала по её собственному приглашению!
Мы, сократив и очистив ради приличий, изложили эти истории, следуя миссис Менли. Читатель волен выбирать ту или другую, но, наверное, не обе сразу. Или, повторимся, обе они - лживая выдумка похотливых и нечистых мыслями подонков общества, нарочно сервированная и проданная политическим злоумышленникам, преследовавшим некоторые партийные интересы.
И в оправдание Джона перед потомками, мы снова обратимся к переписке влюблённых, где и сам он оправдывается - перед Сарой. Отношения не вышли из тупика, и Сара справедливо требует от Джона: решиться или расстаться.
Сара Джону.
Если вы и вправду испытываете ко мне чувство, о котором пишете, то сами сумеете отыскать путь к собственному счастью это в вашей власти. Пока же не настаивайте на свиданиях; я не могу встречаться с вами, не компрометируя себя, и если моя просьба покажется чрезмерной, просто подумайте, кто стал тому причиной.
Джон Саре.
Я точно знаю, что власть, о которой ты пишешь, всецело принадлежит тебе; поверь, я уже оставил всякую мысль о том, что любим тобою, и ясно понял, что мои письма никак для тебя непритягательны а я остаюсь рабом твоих чар, всецело твоим рабом, и, клянусь всеми святыми, люблю тебя больше жизни. Окажи милость, не порицай меня за прошлую, тщеславную и глупую веру в то, что ты меня любила бог ведает, какую радость черпал я в этом заблуждении, но впредь оно станет для меня мукой. Ты пишешь, что я притворялся в страсти к тебе думая о другом предмете. Не могу вообразить, что ты имеешь в виду, и говорю, призывая свидетелем Господа, что ты одна владеешь моими думами, и что я не помышляю ни о ком в целом мире, но только о тебе. Я не надеюсь, что после всего случившегося такие речи о моих мыслях хотя бы и отчасти разжалобят тебя, ведь я отчаялся найти в тебе взаимность, и просто говорю о твоей ко мне несправедливости, а сам останусь вечно влюблённым, влюблённым в тебя до последнего вздоха, что бы ты ни делала со мной. Я не ожидаю в ответ ни разговора, ни письма: ты ведь считаешь, что это тебя опорочит, но я одержим мыслью, что ты не дойдёшь до предела жестокости, совсем порвав со мною. Оставь мне то, с чем я не в силах бороться вечное моё обожание, а я в ответ стану искать путей, чтобы снискать твою любовь, не имея её теперь. Знаю, что говорю дерзости, что ты рассердишься, и заранее, от всей души прошу твоего прощения, обещая, что впредь стану приближаться к тебе и помышлять о тебе с тем же трепетом, как думаю о моём Господе.
Джон Саре.
Ты пеняешь мне на неотзывчивость, но сама не соизволила ответить на прошлое письмо, несмотря на все мои мольбы. Сегодня герцогиня собирается на новый спектакль, а потом на танцы к герцогине Монмутской. Я не хочу, чтобы ты была там; отговорись и дай мне шанс повидать тебя. Молю, дай мне знать, как ты собираешься поступить, и если пойдёшь на премьеру, я найду способ попасть туда, пусть [даже и сам] герцог не пойдёт. Ты не пишешь и мне нелегко; боюсь, ты стала невнимательна ко мне невежливость, никак мною не заслуженная.
Сара Джону.
Что до свиданий: я решила не встречаться с вами ни на людях, ни наедине лишь по неизбежной необходимости. Что до последнего: боюсь, мне понадобится некоторое время, чтобы развести наши пути и не видеть вас вовсе. Вы, несомненно, создание с самым лживым языком в целом свете признайтесь в этом сами себе. Я же признаюсь, что стану теперь немало страдать, но вынесу это - Господь, пусть и не сразу, открыл мне глаза на мою ошибку.
Сара накрепко заперла дверь, но снова приоткрыла её через несколько времени.
Джон Саре.
Конечно, у тебя есть некоторый повод для сомнений, но я люблю тебя сверх всякого воображения, клянусь всеми силами небесными. Посмотри на непререкаемое доказательство твоей надо мною власти: я, повинуясь твоему приказу, оставляю тебя, хотя сердце-тиран кричит, веля ослушаться; но пусть оно лучше разорвётся, чем причинит тебе неудовольствие. Я не стану, моя дорогая, просить или надеяться на встречу; я обожду, пока в тебе не заговорит милосердие; пока оно не подскажет, что человек, умирающий из-за тебя, может надеяться на некоторое внимание, на некоторую привилегию среди всех прочих созданий одного со мною пола. Я люблю, обожаю тебя всем сердцем и душою так сильно, что при любых обстоятельствах уважаю, и буду уважать твоё счастье сильнее собственного, но, душа моя, вообрази, что мы могли бы обрести взаимное счастье какой невыразимой радостью стала бы тогда наша жизнь! Но я теперь не мечтаю о многом, а довольствуюсь тем, что приемлемо для тебя, одной тебя; но вдруг ты когда-нибудь полюбишь меня, дав великое счастье, присущее одним лишь бессмертным.
Сара Джону.
Я так же мало удовлетворена вашим последним письмом, как и многими из прежних, и думаю, вы пишете всё это дабы тешить меня пустыми словами, уверяя в своей страсти, хотя на деле всё обстоит иначе. Вы, разумеется, удивитесь: зачем я пишу после предыдущего ответа, после обещания никогда больше ни писать вам, ни разговаривать с вами; но если бы вы знали, как я привязана к вам, то не стали бы ни удивляться, ни винить меня за эту, очередную попытку, предпринятую в надежде услышать ваши ответные оправдания. Но должна предупредить не перечьте мне, по вашему обыкновению; не вынуждайте меня препираться с вами и не распространяйтесь о моих ожиданиях насчёт вас, потому что если вы поведёте разговор таким образом, я немедленно вас оставлю и не стану слушать до конца дней моих. Извольте помнить об этом, когда к моей чести и вашему удовольствию нам случится увидеться; ведь стоит вам лишь снова пуститься в привычные повторения, я сочту вас за худшего в мире человека, за персону бессовестно неблагодарную; не стоит думать, что я соглашусь стать всеобщим посмешищем, когда в вашей власти обойтись со мною иначе.
Джон Саре.
Твоё вечернее послание застало меня в таком недуге, что я вполне свыкся с мыслью о смерти; теперь же голова беспрерывно болит так, что я решил весь день не сходить с места, но герцогиня послала сказать, что герцог ждёт меня в полдень, так что вечером я буду иметь счастье видеть тебя в гостиной. Не могу припомнить, от каких моих слов ты стала так уязвлена, но уверяю тебя в одном: я никогда не говорил и для меня невозможно сказать ничего такого, что может тебя расстроить. О, душа моя, если бы твоя любовь была равна моей, ты никогда бы не отвергла моё письмо с такой жестокостью, даже и имея на то резоны - любовь не позволила бы тебе так поступить. Но я не стану сетовать на это более; надеюсь на то, что время и подлинность моей любви подвинут тебя на лучшую любовь ко мне.
Джон Саре.
Этим утром я мучился сильнейшей сверх привычного головной болью, так что не набрался храбрости написать и спросить, как ты себя чувствуешь; но твоё здоровье мне куда дороже собственного. Поэтому напиши мне, и если твоя болезнь прошла, я избавлюсь от глубочайшей тревоги; ведь с тех пор, как я несчастливо поверил в твою ответную любовь, я не думаю о сроке своей жизни и несмотря ни на что, обожаю тебя так, что искренне желаю умереть в минуту, когда ты разлюбишь меня: ибо всё, что наступит потом, станет для меня одной непрекращающейся пыткой. Если герцогиня устроит приём, надеюсь увидеть тебя там; но если нет, прошу пригласи меня к себе в комнаты хотя бы на час. Если ты не собираешься на приём, непременно пришли мне весточку и назначь время, когда я смогу придти.
Сара Джону.
Мы могли бы увидеться в четыре, но тогда вы не попадёте на спектакль; боюсь, это станет для вас большим горем и усугубит вашу мигрень до такой степени, что никакое волшебство не сможет исцелить вас разве что следующая премьера. Прошу вас поразмыслить хорошенько, и, оставив комплименты в мой адрес, написать: сумеете ли придти ко мне без ущерба для вашего здоровья.
Джон ответил на этот злобный сарказм особенным, единственным возмущённым письмом во всей их переписке - он не писал Саре ничего подобного ни прежде, ни после. Само письмо не сохранилось, но мы поймём тон по сопроводительной записке к служанке Сары, несомненной сообщнице Джона.
Полковник Черчилль миссис Элизабет Моуди.
Твоя госпожа взяла в привычку обращаться со мною бесчеловечно, и, раз она унижается до таких грубостей, я почитаю её наихудшей из женщин в целом свете. Я хочу, чтобы ты передала ей это письмо в руки. Пусть она прочтёт его себе же во благо, а затем, своим умом, решит: нужно ли и дальше беспокоить меня или нет это как ей будет угодно. Я люблю её всей душой, но не стану докучать безответно, потому что без её любви мне ни к чему её жалость. Пусть она, во имя всего, что было между нами, прочтёт и ответит и впредь заречётся помыкать мною, словно лакеем.
В двух этих письмах собралась кульминация переписки. Из ответа видно, что Сара вполне оценила и меру горечи Джона, и всю опасность наступившего переломного момента. Она протянула раздражённому другу руку, понудив его поспешить со встречным рукопожатием. Судя по всему, он ответил через несколько дней, изжив за это время мятежные настроения.
Сара Джону.
По правде, я ничем не заслужила упрёков такого рода и теперь не знаю, как ответить на ваше письмо, но после такой отповеди я, поневоле, несколько досадую на себя; если бы вы были так же безразличны мне, как я - вам, я разъяснила бы своё недовольство во множестве встречных упрёков и стала бы премного довольнее нежели теперь. Судя по вашим словам, вы охотно откажетесь от встреч со мною - верю вам в этом; у меня нет других друзей и когда-нибудь, когда вы поймёте мою верность слову, в вашей воле будет искать или обходиться без встреч со мной но я буду очень рада, если вы удовлетворите гнев одним этим ответом.
Джон Саре.
Это великая любезность с твоей стороны ты пожелала стать доброй и нашла время для вчерашнего письма, особо любезного после твоего решения не попадаться мне на глаза. Но я решил воздерживаться, не делая впредь ничего, что может тебя огорчить, и приму от тебя всё, что тебе будет угодно.
Мы наблюдаем единственную капитуляцию во всей жизни герцога Мальборо. Семнадцатилетняя девочка дунула, и он пал. Более того: он испугался и это был единственный, в меру наших знаний, страх в его жизни жизни, прошедшей в опасностях и страшных испытаниях. Ничто ни пламя сражений, ни долгие тревоги заговора, ни самовольный, самочинный марш на Дунай, ни замысловатые тайные сношения с якобитским двором ничто не колебало равновесия этого холодного, рационального, твёрдого ума. Но глядя на эту любовную историю, мы видим его в неприкрытой панике. Он и Сара накинулись друг на друга с такой яростью, что могли расстаться; могли разойтись, словно два корабля в ночи и этот страх победил Джона. Иной, не столь влюблённый человек сыграл бы с бойкой девицей Сарой куда искуснее нашего героя. Некоторый расчёт, некоторая ловкость, некоторые отрепетированные расставания, сторонний флирт в острастку сам Джон владел этим искусством как никто, но использовал его в других областях деятельности, и не прибегнул к подобным орудиям в тогдашнем казусе с Сарой. Он клялся и умолял: откровенно, жалобно, заискивающе, непрерывно. Мы видим свет, что временами озаряет душу. Эти двое принадлежали друг другу и, при всех обоюдных промахах, выказали подлинное как мы теперь знаем единение; и такая подлинность нечасто встречается в обыденности. В те дни, пытаясь устоять под сильнейшим давлением родных ему людей, он, в глубине души, боялся одного стать отвергнутым Сарой.
Мы довели рассказ до конца 1677 года, до последних писем уцелевшего эпистолярия. Определённо состоялась помолвка. Осталось назначить срок и решить денежные затруднения. Джон пишет невесте о разговоре с отцом, призывает Сару не злить герцогиню Йоркскую, размышляет о материальной стороне совместной жизни.
Джон Саре.
Ты была недобра прошлым вечером, когда тотчас ушла, узнав о том, что я пришёл с единственным намерением - порадоваться встрече с тобой, но я не верю, что ты сделала так из-за моей холодности, ибо ты есть средоточие всех добродетелей одна мысль о которых увлекает меня в любовь, что пуще всего на свете. Если ты собираешься в гостиную этим веером, сообщи мне, в какой час, чтобы я мог устроить дела и побыть там вместе с тобой. Теперь я у себя, и останусь здесь до тех пор, пока надеюсь получить от тебя весточку.
Сара Джону.
Я желаю ублажить весь свет и вас тем, что не стану затевать сегодня ссоры, так что разрешаю вам прийти сегодня вечером - не потому, что вы убедили меня в том, что когда-нибудь сумеете оправдаться, но поступаю так, чтобы избавиться от ваших смехотворных упрёков.
Джон Саре.
Когда прошлым вечером я ушёл от отца, с намерением прийти и поговорить с тобой, я не думал, что ты будешь так жестока и уйдёшь сей миг, как я вошёл, опасаясь, что иначе я могу заговорить с тобой, как я, несомненно, и сделал бы с великой радостью. Молю, позволь мне увидеть тебя сегодняшним вечером, в час, когда тебе будет угодно. Молю о весточке, и если не сочтёшь такой вопрос неуместным, я очень желал бы знать, почему ты ушла в тот раз.
Джон Саре.
* Я собрался в Ричмонд, но не уеду, пока не улажу должное с тобой, кто навсегда главная во всех моих мыслях. Я должен вернуться заранее, и успею к назначенному тобою времени, но, думаю, лучше будет, если ты останешься до десяти, и буду счастлив, если дождёшься; прошлым вечером не дождалась. Уверен, если ты любишь меня, ты не станешь злить герцогиню; итак, молю - дождись, и будь милостива, верь, что у меня нет иных мыслей кроме всевозможного тебе услужения, ибо я отчаюсь в жизни, не сумев уверить тебя в подлинности своей любви. Молю о том, чтобы найти по возвращении ответ в несколько слов.
Джон Саре.
* Ты совсем несправедливо говоришь, что я люблю тебя не так, как прежде, ведь я, во имя всей на свете справедливости, люблю тебя сильнее прежнего. Мне бесконечно жаль, что ты нездорова и что я не увижу тебя сегодня. Я просидел три акта пьесы затем лишь, чтобы увидеться с тобой. Я ждал тебя в гостиной почти час, и свидетель тому мистер Беркли, бывший там со мною. Прошу, не выбирай [доверенного лица?] и не предпринимай ничего в этом деле, не посоветовавшись прежде со мной. Молю, будь добра ко мне и пиши и обнадёжь меня в том, что сумеешь быть счастлива, если я буду любить тебя вечно - и, ей-богу, так и будет.
На сцену выходит леди Гамильтон и Сара, кажется, страшит Джона планами отъехать с сестрой заграницу.
Джон Саре.
Когда я писал вечернее письмо, мне казалось, что я обращаюсь к той, кто любит меня; но твои утренние холодность и равнодушие подтвердили прежние опасения - сестра твоя вертит тобою как хочет. Сердце моё рвётся. Ты дошла до крайнего ко мне безразличия, и я хочу умереть, не чая облегчения помимо смерти. Я уже решил, что если герцогиня не справится с нашими затруднениями, я сделаю ей другое предложение и был уверен, что с ним-то она сумеет помочь пусть это и принесёт меньше денег. Но ты теперь говоришь, что мы не сможем быть счастливы, и я забросил все планы. Если они согласятся на первое предложение, чего я желаю всей душой, у меня появятся хорошие средства, и, может быть, ты станешь счастливее со мною здесь, нежели с сестрой во Франции: ведь я знаю, что ты затеяла радостный разговор об этом чтобы предостеречь меня от неудачи. Я люблю и буду всегда любить тебя до умопомрачения, но не стану, даже ради собственного великого счастья, настаивать на том деле, что в твоём воображении - сулит несчастливый исход. Мнится мне, мадам, это весомая причина для свидания в ваших покоях, сегодня же вечером. Прошу, черкни мне немедленно пару слов, дай разрешение; а я в ответ клянусь умереть, если ты так велишь.
Последнее письмо надписано на обороте рукой Сары: Письмо это стало написано тогда, когда он должен был уговориться с герцогиней о дне нашей свадьбы. Шаг за шагом, словно при методической осаде, Джон устранил с дороги некоторые затруднительные препятствия. Он отложил на будущее все военные перспективы. Барбару удалось устранить. Катарину удалось устранить. Родители возможно, против своей воли дали разрешение. Очевидно, что он теперь ищет средства, достаточные для него с Сарой. Девица, впрочем, до последнего придерживается прежней, задиристой манеры. Но всё уладилось.
Сара Джону.
Если намерения ваши честны[116] и отвечают моим обоснованным ожиданиям, не опасайтесь приезд сестры никак не повлиял на меня и никто, кроме вас не имеет надо мною власти; сейчас я удовлетворена тем, что вы не станете делать ничего неразумного, ничего неверного по отношению ко мне.
Сара Джону.
Я долго размышляла над тем, что вы рассказали мне прошлой ночью, и пришла к мнению: если герцогиня добьётся того, о чём вы собираетесь просить, положение ваше лишь усугубится. Итак, я - по обыкновенной и должно быть чрезмерной к вам привязанности - решила дать вам лишнее доказательство преданности: я не желаю, чтобы вы говорили на мой счёт с герцогиней - ведь и в моих, и в ваших собственных, не связанных со мною интересах, надо направлять дело так, чтобы жизнь ваша стала не горестнее, но намного счастливее.
И они поженились. Никто в точности не знает, когда и где состоялось венчание. Свадьбу сохранили втайне на несколько месяцев. Причина, скорее всего, кроется в бедности жениха, а не в родительском неблаговолении. Дедов майорат не допускал дробления; отец Джона, сэр Уинстон фактически распоряжался в нём на правах пожизненного арендатора и он, человек, обременённый долгами, сам обратился к сыну о помощи. В то самое время, когда Джон отчаянно мечтал о прочных перспективах, отец попросил его отказаться от прав наследования на поместье. И сын сделал это ради отца. Часть имущества продали, уплатив долги сэра Уинстона. Непроданное отходило другим детям после смерти сэра Уинстона. Джон добровольно отказался от наследства. Так решил безвозвратно влюблённый и рвущийся к семейной жизни человек: исключительный пример сыновней преданности[117].
Он не мог должным образом содержать жену при дворе. А за объявлением свадьбы могли последовать всякие вещи. Мария Моденская, герцогиня их писем, стала для Джона и Сары доброй феей. Она оказала покровительство влюблённым, употребив всё своё влияние. В самом деле, необходимо было что-то предпринять - пара нуждалась в средствах для супружеской жизни. У Сары были некоторые материальные виды, а у Джона жалование и, разумеется, 500 фунтов позорной ренты в год, но этого было очень мало для мира, где они жили. Будущая королева взялась устроить брак, судьба молодых людей тронула её великодушную, женственную, романтическую натуру. Мы видели, что в письмах упоминаются какие-то планы, связанные с герцогиней: она благоволила влюблённым и старалась добыть для них некоторые средства. Мы не знаем, как это устроилось. Но что-то в любом случае было сделано. И в какой-то из зимних дней 1677-78 года, где-то возможно, что в покоях Марии Моденской прозвучали святые слова, и Джон с Сарой стали мужем и женой. В Ньюселс-Парке, Ройстон, Хартфордшир - теперь им владеет одна из ветвей семьи Дженнингсов - доныне сохранилось устное предание: столовую залу специально построили, чтобы отмечать там свадебные годовщины Сары Дженнингс. Возможно, что в Ньюселс-Парке и прошёл их медовый месяц.[118]
Маколей поведал историю любви Джона и Сары в следующем пассаже:[119]
В самом деле, он, несомненно, стал увлечён. У него почти не было средств помимо ренты, купленной на позорное жалование от герцогини Кливлендской; он отличался ненасытной алчностью; Сара была бедна; ему же предлагали дурнушку с большим состоянием. Любовь, после некоторой борьбы, одолела алчность; а брак лишь усилил любовь; и Сара, до последнего часа его жизни, осталась единственной среди всех живущих, кто сумела свести с привычного пути его проницательный и непреклонный ум, кто была пылко любима его ледяным сердцем, кого рабски боялся этот неустрашимый дух.
Как часто человек, язвя других, не чая того выдаёт собственные тайны! Фраза В самом деле, он, несомненно, стал увлечён, показывает до какого уровня Маколей низводит любовь, выше какого уровня не умеет подняться он, со своим личным опытом. Удел его - искажённое восприятие мира в ложном цвете, он никогда не возвысится до чувства, что движет, что повелевает миром.
О том же прекрасно пишет Паджет:
Пусть лорд Маколей не очень понимает в человеческой натуре, но он, по меньшей мере, прекрасно знаком с трудами тех, кто, во все времена и на всех языках сильнейшим образом тревожили человеческие сердца, умея рассказать о том, как буйство молодой любви развивается в глубокую, нежную привязанность: такую, что простирается в вечность, сильнее смерти, сокровеннее могилы; здесь предмет ровно тот же, но в груди Маколея пробуждаются совсем иные чувства. ... Примечательно, но двое сильнейших писателей из всех, кто творили на английском языке, совершенно глухи ко всем чувствам, берущим начало в любовном влечении. Мы не видели ни единой строчки вышедшей из-под пера Свифта и того же лорда Маколея, где звучала бы некоторая симпатия к страсти, признанной великим множеством умов сильнейшей в целом свете. Кажется, что любовь Джона Черчилля и Сары Дженнингс поднимает в лорде Маколее то настроение, с коим некоторый персонаж - доктор Джонсон привык называть его первым вигом[120] - устроил счастье наших прародителей в садах Эдема.[121]
Впрочем, маколеева едкость находит ясное объяснение. Обдумывая свою историю, он решил выставить Мальборо самым одиозным персонажем в заготовленном распределении ролей - негодяем, кто ... в самом цветении юности любил барыш пуще вина и женщин и кто, на самых высотах величия, любил барыш пуще власти и славы. Такое обвинение, слишком ужасное чтобы стать сходу воспринятым, нуждалось в постоянном подтверждении. Но вся история ухаживания, брака, союза Джона и Сары длиною в жизнь грубо разрушало тезу великого историка. Но факты неоспоримы. Факты благовестят во славу союза двоих - единения в коем огромное число цивилизованного человечества находит счастье и спасение в нашем колышущемся мире.
Через четверть столетия семейной жизни, Черчилль, уходя на войну от маргитского причала, писал жене:
Не могу объяснить словами, с каким тяжёлым сердцем я расстался с тобой там, на берегу. Я мог бы бросить всё и остаться, но, признаюсь, что слаб и не осмелюсь отказаться от кампании, от надежд показать себя на войне. Но пока я остаюсь в одном взгляде от тебя, я ни на что не годен, и разглядываю в подзорную трубу береговые скалы.[122]
В одном из писем Сары определённо, она написала его после 1689 года; возможно, писала она мужу, сидевшему в Тауэре мы читаем:
Где бы ты ни был, пока я живу, душа моя с тобой, мой лорд Марл; и что бы я ни делала, я лишь убиваю время за бесполезными занятиями, мечтая о ночи, чтобы заснуть в надежде на завтрашнее письмо от тебя.
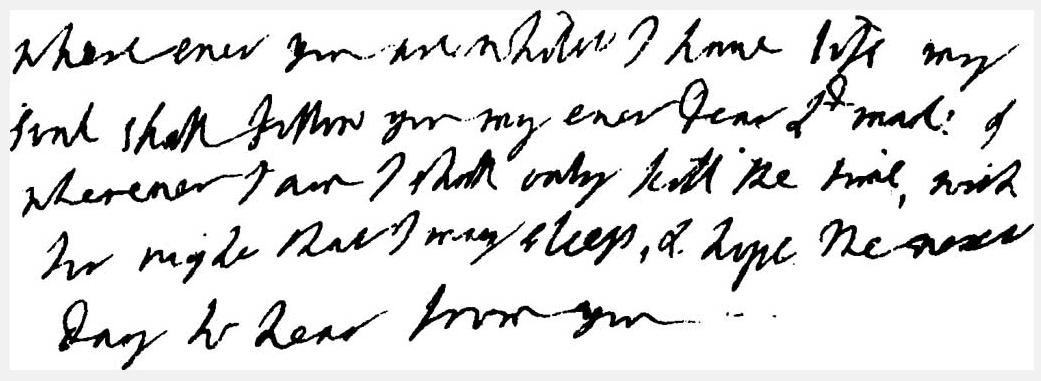
Фрагмент письма Сары к Мальборо, из рукописей Бленхейма
Наконец, после смерти мужа, Сара ответила герцогу Сомерсетскому, кто искал тогда её руки.
Когда бы я была молода и красива, как прежде, а не старая и увядшая, как теперь; когда бы вы положили к моим ногам весь мир вы никогда не получили бы моих сердца и руки: я отдала их Джону, герцогу Мальборо однажды и безраздельно.
Эти фактические свидетельства поражают воображение; здесь отношения между мужчиной и женщиной вздымаются над миром людским, со всеми его заботами и промахами. Они возжигают в каждом благородном сердце упование глядите, ведь и такое случается здесь, в мире скромных смертных, где уходящие и приходящие роды выиграли вечную привилегию жить
Над бурными реками времени,
В Атлантическом граде Иерусалиме,
В моём златом доме небесном.[123]
И сказанное досадовало лорда Маколея. Компрометировало замысел его истории. Обессмысливало целый набор эпиграмм и антитез, успевших стать его литературными любимцами. Ему не осталось иного выхода, кроме глумления, и он глумится не покладая ловкого, отточенного, неразборчивого пера.
Его литературный наследник, профессор Тревельян, чьи честные, добросовестные и отлично документированные труды позволяют нам по-новому смотреть на те времена и деятелей тех времён, дал - со всеми возможными стараниями - наилучшее оправдание историческим злоумышлениям своего двоюродного деда. Он (буквальным образом) говорит, что Маколей, с его вкусом к яркому изложению, нарочно испачкал раннюю историю Мальборо, чтобы потом, с живейшим и ярким контрастом поведать о славе великого периода жизни герцога. Он завершил мрачный фон, и умер, прежде чем успел нарисовать на нём алый мундир и горящие глаза победителя при Бленхейме. Мы не станем ни опровергать такую апологию, ни признавать таковое утверждение. Но что за метод для исторического труда! Положим, Маколей на самом деле добивался лучших контраста и красок, намереваясь поразить толпу великолепием будущей картины - пусть; но желание это ни на грош не искупает того, что, располагая сведениями - причём самыми наилучшими - лорд Маколей остался убеждённым и добровольным фальсификатором и выдвигал против известных ему свидетельств самые шокирующие обвинения - при том, что в иной связи он сам и вполне подтверждал таковые свидетельства. Дело жизни Маколея лежит в пространстве слов, и мало кто превзошёл его в словоплетении. Жизнь Мальборо известна лишь по его делам. Как здесь сравнивать - слов много и слова дёшевы; великие дела трудны и редки. Положим, однако, что измены и преступления Мальборо, приписанные ему Маколеем, имели место в области дела - но поведение Маколея во владениях истории и литературы, на том поле брани, где он желал царствовать, едва ли лучше проступков герцога.
Госпожа писательница Менли, французский посол Куртен и прочие авторы вне приличий, распространяются об огромных богатствах, изъятых Джоном у герцогини Кливлендской. Прошло, однако, пять лет после свадьбы, прежде чем он смог купить любимой собственный дом. До этого они жили то там, то тут следуя назначениям и поручениям Джона. Они ездили за герцогом или боем военного барабана. Джон на пять лет оставил за собой холостяцкие комнаты на Джермин-стрит, недалеко от Сент-Джеймс стрит, и они жили там при редких наездах в столицу. А поначалу Сара жила в Минтерне, с сэром Уинстоном и его супругой теперь старыми, и всё более немощными. И сэр Уинстон вполне мог говорить сыну так: Вот худая крыша - всё, что досталось нам, неизменно верноподданым: милости просим. Ты был лучшим из сыновей. Но теперь ты отбросил все счастливые шансы. Разве мы с матушкой не говорили тебе, как неблагодарен мир, как неразумны молодые люди? Но всегда остаётся надежда. В молодости, твоя матушка и я, прожили одиннадцать лет в кромешной нищете. Если бы ни твоя бабка, Элеонора Дрейк, мы умерли бы с голоду. Мы держались друг друга, и прошли сквозь это. Возможно, хоть мне и нечего оставить тебе, пройдёте и вы, вдвоём. Я и матушка уже мало что можем. А вы делайте всё, что в силах и, может быть, однажды ты наберёшь достаточно денег на свой собственный дом.
Разительный, должно быть контраст: он был воин со сверкающим мечом, любимец королевской любовницы, отважный полковник Англии и Франции; друг и соперник правителей земных; и страсть к вожделенной Саре опрокинула его в обыденность, к вопиющим нуждам семейной жизни. Но они очень любили друг друга и их не слишком беспокоили дела внешнего мира. Странное начало жизни для человека, кто в самом цветении юности любил барыш больше вина и женщин.
Мы не надеемся пересилить лорда Маколея. Пышность и притягательная сила его изобразительного мастерства оставляют нас далеко за флагом, Маколей находит почитателей в каждом приходящем поколении. Мы лишь надеемся, что за Правда угонится за ним и пришпилит надпись Лжец к фалдам его безупречно скроенного одеяния.
Денби потакал Карлу, погрязая во многих компромиссах, но умел вести собственную политику и, к 1678 году, возвысился до зенита отпущенной ему власти. В 1677 году первому министру удалось устроить никак не приемлемый для Людовика брак Вильгельма Оранского со старшей дочерью герцога Йоркского, Мари. Ход этот был предпринят Денби в ряду прочих манёвров его антифранцузской политики, но стал решительным событием для нашей истории и для истории всей Европы. Начиная с 1674 года, против Людовика своим чередом развернулись Голландия, Пруссия, Империя и Испания; теперь он имел дело со многими оппонентами, и не мог пренебречь таким противодействием, даже и при огромных возможностях Франции. Переход Англии в антифранцузскую коалицию решительно менял баланс сил, оставляя Францию слабейшей стороной. Карл по-прежнему настаивал на мире, на сдержанном поведении с Людовиком, но был готов отказаться от таковой умеренности - за огромные деньги. Нет сомнений, что если бы Карл чистосердечно следовал советам Денби, он смог бы поднять на войну с Францией сплочённую страну, успевшую восстановиться и воспрянуть за представившуюся передышку. Он снискал бы широкую популярность; он получил бы большие парламентские ассигнования. В начале 1678 года мы стояли накануне решительных событий.
В три проведенных в Англии года, Черчилль исполнял всёвозрастающий объём дипломатической работы, и, оставшись уважаемым офицером, зарекомендовал себя как хороший дипломат. К началу международного кризиса, что разразился вскоре за его женитьбой, Джон успел заработать репутацию человека равно искусного в войне и переговорах. Союз с Голландией и увеличение английской армии до тридцати тысяч человек открывали хорошие перспективы в обеих сферах деятельности. 18 февраля 1678 года правительственный бюллетень объявил о присвоении Черчиллю звания полковника одного из новых пехотных полков. В марте герцог Йоркский вызвал его из Минтерна; Черчилль даёт Саре разъяснение в нижеследующем письме:
Я добрался до города в начале четвёртого и очень устал. Но переоделся и пошёл к герцогу справиться о дальнейших приказаниях. Он сказал, что истребовал меня по следующей причине: герцог в точности уверен, что скоро возникнет нужда в моей поездке во Фландрию и Голландию, и должен иметь меня при себе, чтобы послать немедленно. Он ожидает писем из Франции в пятницу, полагая, что найдёт в них ответ: останется ли между нами мир или начнётся война, но что бы ни случилось, ты можешь быть уверена: в этом году мне ничего не угрожает.[124]
Дипломатические документы открывают нам характер той миссии. Джон, выступая от имени короля, должен был без посредников договориться с голландцами и испанцами о численности тех сухопутных и морских сил, что выставит против Франции новый союз; помимо этого, ему предстояло обсудить подробности взаимодействия армий и старшинство английских и голландских офицеров разных званий. Наконец, он должен был обсудить вопрос о безопасности четырёх английских батальонов в Брюгге - они оказывались под угрозой после изменения политического курса. Серьёзнейшее дело - притом, что инструкции дали лишь на словах - для двадцативосьмилетнего полковника. Одновременно друг Черчилля, Сидни Годольфин, стал послан вести политическую сторону дела и выпытать у голландцев в переговорах на каких минимальных требованиях те согласятся заключить мир.
Черчилль покинул Англию 5 апреля и, в первую очередь, направился в Брюссель, где пришёл к соглашению с герцогом Вильяэрмосом.[125] Оттуда он поехал через Бреду в Гаагу, и, после некоторых трудностей, успешно договорился с Вильгельмом Оранским, предложив тому в соответствии с инструкциями, двадцать тысяч человек с должной артиллерией. О заминке в тех переговорах говорится в двух письмах: от Черчилля супруге и от Вильгельма к Денби.[126] Вильгельм пишет из Гааги 23 апреля/3 мая 1678:
Я не стану ничего писать вам о том, как мы пришли к соглашению с мистером Черчиллем, прежде чем сам он не расскажет вам об этом. Мистер Годольфин прибывает завтра вечером. Я весьма расстроен тем, что не могу быстро исполнить то, чего желает король и что нам так необходимо.
Лорд Уолсли ошибается и путается, когда пишет об указанных соглашении и письме: он рассказывает одну историю дважды в двух разных главах, датируя её сначала маем, а затем августом, и цитирует одно и то же письмо Вильгельма сначала на французском, потом на английском.[127] Нет сомнений в том, что Черчилль заключил все соглашения в апреле, а потом возвратился в Англию. В следующий раз он отплыл на Континент лишь в сентябре и уже как солдат.
Джон прекрасно поладил с Вильгельмом Оранским. Он, несомненно, намеренно стремился к хорошим с ним отношениям. Должно быть, они часто встречались в 1677-78, не лишь по делу, но в обществе.[128] Они были одногодками. Когда разговор заходил о религии, между ними не было разногласий. И если речь шла о распространении Франции, как они могли уйти от перспектив военной кампании? Что до бесед об искусстве войны, солдатская профессия была делом их жизни. Война ещё шла, и боевые действия с их личным участием, пусть и на разных театрах, по разные стороны фронтов, предоставляли этим двоим неисчерпаемую тему для обсуждения. Разговоры их могли зайти очень далеко. Вообразим, как они склоняются над картой Европы, обмениваясь всёпонимающими взорами. Вильгельм не испытывал вражды к молодому человеку; должно быть, он получал большое удовольствие от разговоров с понимающим сверстником, кто, судя по всему, был вхож ко всякой персоне английского двора; кто разбирался во всех тайнах политики и власти не хуже любого принца.
Поведение герцога Йоркского в эти месяцы открывает нам туповатую, простодушную сторону его натуры; человека незатейливого и естественного, высвечивая тем будущее, события 1688 года. Мировоззрение, политические и религиозные пристрастия склоняли герцога к союзу с Францией против Голландии. Но он не мог смириться с французским доминированием. Англия должна блюсти своё достоинство отвергая патронаж. Союз, заключенный с Голландией безотносительно к его праведности позволяет вести войну с честью, как и должно вести войны. Полумеры невозможны: либо то, либо другое.[129] И мы видим, как герцог проталкивает своего доверенного посредника, Черчилля, в самый центр этого дела. Разгневанный французской неуступчивостью в Нимвегене, Джеймс, в июле месяце, пишет Оранскому принцу, что если голландцы сделают своё дело, король Англии их поддержит. Он и Монмут католический принц, предположительный наследник и бастард-протестант с претензией на трон деятельно сотрудничали. 1 мая Черчилля назначили бригадиром пехоты с правом набирать рекрут. Он писал из Лондона сэру Чарльзу Литтлтону (12 июня 1678): Мы снова и решительно настроены на войну; и я надеюсь очень скоро получить приказ об отправке за границу.[130] Наконец, 3 сентября, он получил приказы следовать во Фландрию в обществе другого бригадира, сэра Джона Фенвика, кто сыграет значительную роль в дальнейшей судьбе Джона. Бригада Черчилля состояла из двух батальонов гвардии и ещё одного батальона, все из Голландии, полков герцогини и лорда Арлингтона.[131] Монмут с восемью тысячами солдат из английских полков во Фландрии, начал настоящую уже войну, приняв участие в атаке Вильгельма на Сен-Дени (4 августа 1678). Карл наблюдал за таковой верноподданнической деятельностью с циническим удовольствием, продолжая негоции с Людовиком. Он хотел мира; он намеревался кончить дело миром; он, в конце концов, добился мира.
Мы видим, насколько Джон Черчилль упрочился в прославившем его двойном качестве солдата и дипломата: по ходу каких-то нескольких месяцев ему поручили вести деликатные и важные переговоры, а затем вверили те войска, что отправлялись на войну первыми из всей армии. Уже тогда, в 1678 году он распробовал вкус великих дел, предстоявших ему в дальнейшем. Он, совершенно естественным образом, по природе своей, оказался подходящим человеком - пусть и небольшого пока масштаба - для роковой ситуации, когда встал выбор между войной и миром. Третьего сентября ему предстояло ехать на фронт, но к тому дню, он, ведая слишком много тайн, уже не верил в грядущее продолжение войны. В нижеследующем письме к Саре, он судит о запутанном политическом положении трезво и точно.
Ты можешь быть вполне спокойна: мир с определённостью заключат в несколько дней. Уверяю тебя, что имею доподлинные о том известия, так что ты не станешь волноваться, когда я скажу, что должен ехать за границу, и что отъезд назначен на завтра. Не сомневайся, что я дам знать о себе в любых обстоятельствах, ведь я если такое вообще возможно люблю тебя пуще прежнего. Уверен, что успею вернуться к началу октября, и время это станет для меня вечностью ведь я лишусь счастья видеть тебя. Умоляю, пиши мне постоянно. Письма отсылай как прежде, ко мне домой, а я распоряжусь, чтобы их непременно пересылали мне. Итак, дорогая моя, до свидания.
Поклон моим отцу и матери, вспоминайте обо мне почаще.
Вторник, ночь. На случай какого-либо несчастного происшествия, прикладываю завещание.
Письмо надписано рукой герцогини: Тогда я могла испугаться, вообразив, что он отправляется на опасное дело, но лорд Мальборо успокоил меня.
Набор договоров, составивших Нимвегенский мир, стал подписан в течение осени 1678. Большая часть Европы вошла в коалицию против Людовика, и тот отступил с солидными приобретениями. Он осёкся в главном - в свирепом плане уничтожения Голландской республики, но присоединил и аннексировал Франш-Конте; Лотарингия, в сущности, перешла в его руки; он, вероломным образом, не предполагал исполнять мирных условий и тем остаться владетелем большой части Бельгии, в том числе многих важных крепостей. Тем не менее, Нимвеген откликнулся в Людовике тем безошибочным чувством, что его стреножили. Он оставил за собой ценные приобретения, он широко раздвинул границы Франции, но осёкся на полном скаку, наткнувшись на верно направленный, жестокий встречный удар. Он терзался досадой посреди триумфа и повернул недобрый взор в сторону тех, кто он знал это помешали ему. В 1668 году он ушёл из Бельгии, готовясь наказать Голландию. В 1678 он ушёл из Голландии, готовясь что было куда проще - покарать Денби.
Для первого министра наступил час расплаты. За четыре года власти, он обратил против себя многих ревнивцев. Барильон поощрял и кормил французским золотом не одного Карла, но странную, сбродную коалицию: вигов, ведомых Шефтсбери; диссентёров; католиков; недовольных вокруг Арлингтона. Сообразили так: лозунг За Церковь и Короля предполагает чистый англиканизм и нестеснённую монархию, и никак не годится теперь, когда во главе протестантской церкви стоит король, проводящий католическую политику.[132]
Ещё до Нимвегена, перед королевским советом в Уайтхоле предстал зловещий человек - Титус Оутс - предстал, извергая множество фактов и ещё больше вымыслов о чудовищном, страшном Папистском заговоре. Денби попытался использовать Оутса в своих целях и, развернув заговор против герцога Йоркского, отвести удар от себя самого. Но он опоздал. Защитник англикан стал жертвой тех, кто закричали Нет папистам!. Когда Англия вполне воспылала в страстях, Людовик обрушил громы на министра. Орудием стал Монтегю. Этот человек, посол Англии, воспылал чувством к Барбаре, герцогине Кливлендской, жившей в парижском удалении и был поначалу утешен, став её любовником, но затем перенёс пылкую привязанность на старшую дочь Барбары. Та, оскорблённая вдвойне, гневно обратилась к Карлу. Монтегю поспешил в Лондон, чтобы защититься, и был без промедления отрешён от должности. Тогда он, по собственной воле и за деньги, предложил себя Людовику.[133] За 100 000 крон от французского короля Монтегю обязался открыть парламенту нечистые финансовые дела администрации Денби. Его вызвали к присяге в Общинах, и он, встав пред мстительным Шефтсбери, предъявил предусмотрительно сбережённую коробку с доказательствами против Денби, восклицая, что сей патриот, протестант, наш антифранцузский Денби, был всё это время ответственным лицом при передаче французских субсидий. Видите, его имя стоит на счетах, и я, посол (отметим, кто сам предлагал вести такую политику) - я непререкаемый свидетель всего этого!
Общины, естественно, разразились в беспредельном, праведном гневе. Все попытки министра оправдаться потонули в яростном рёве. Король не сумел спасти своего министра. Денби осудили, отрешили, бросили в Тауэр. Героем дня стал Титус Оутс; тем началось ужасное время насилия и ненависти, и время это затянулось на пять лет. Пять лет насилие и ненависть палили и иссушали политическую жизнь Англии, распространились, во всём безумии, на Шотландию и Ирландию, совершенно раздробив общество и установления трёх королевств; невинная кровь полилась потоками и, что важнее всего, Англия совершенно обессилела в делах на Континенте. Людовик XIV отмстил Денби и Карлу: министру - за политический курс, королю - за надувательство.
Черчилль вернулся в Англию зимой 1678 года, после заключения Нимвегенского договора: к его возвращению английская общественная атмосфера успела перемениться самым прискорбным образом. Даже и во времена гражданской войны население не распоясывалось до таких разъедающих подозрений и ненависти. Здесь не говорят ни о чём - пишет Роберт, граф Сандерленд - кроме мистера Оутса, кого он уличил, кого уличит... Весь народ обуян ужасом, радея о [безопасности] короля. Всякий страдает сам, [тревожась за него].[134] Пока перспектива войны с Францией роилась в людских умах, оставался хотя бы один пункт, на котором могла бы объединиться нация. С исчезновением такой мотивации, партийные страсти стали рвать и испепелять национальное бытие. По сторонам разошёлся даже и преданный Кавалерский парламент. Состав его естественным образом менялся с течением времени. В 1673 году в парламенте прошёл Тест-Акт, отстранивший папистов от всех государственных должностей. Теперь палаты вотировали наказание Денби. Между парламентом и королём не осталось доверия. Пенсионный парламент лояльно служил суверену восемнадцать лет; долее он и они не могли идти рядом. Соответственно, в январе 1679 года этот второй из Долгих парламентов стал распущен. И впредь королю уже не было суждено работать со столь же дружелюбным парламентом.
Выборы пришлись на самое яростное время Папистского заговора. Шефтсбери и лидеры вигов ужаснулись при известии о роспуске, но выборы укрепили их положение. Новые Общины сосредоточились на одной цели: исключить из престолонаследования как Джеймса, так и любого иного папистского принца. И до принятия такого закона они категорически отказали короне в отпуске средств. Многие твёрдо настаивали на том, что в ход пущен тайный план уничтожения протестантской религии и убийства короля, с последующей коронацией Джеймса. Хорошо организованная, вездесущая пропаганда рассказывала о вполне официальном браке короля, в то время изгнанника, с Люси Уолтер; о том, что сын Люси Монмут, наш возлюбленный протестантский герцог - истинный наследник престола. Теория эта насаждалась столь же рьяно, и стала столь же модной, что и миф об угольной грелке через десятилетие, в 1688 году. Король держался принципа. Он твёрдо заявил о внебрачном происхождении Монмута; он, с непререкаемой твёрдостью, противился Биллю об Отводе; но он решил, что Джеймсу не дожидаясь заседаний нового парламента целесообразнее уехать из страны.
И в марте герцог Йоркский вместе со всем своим двором уехали: сначала в Гаагу, а потом в Брюссель, устроившись в том же доме, где прежде, до реставрации, жил сам Карл. Тем самым, Черчилль, едва успевший вернуться в Англию, должен был ехать за границу снова, на этот раз в очень грустное путешествие. В обречённый этот отряд попала и Сара её, вместе со скудными пожитками, изъяли из Минтерна. К апрелю Джеймс строил вынужденные планы жизни в Брюсселе: Опасаюсь того его слова к Леггу
что чем дольше и привычнее люди станут жить без меня, тем труднее [как я полагаю] пройдёт моё возвращение, и пусть я не сомневаюсь в непременной доброте ко мне его величества, вы, разумеется, понимаете, что те, кто собрались вокруг него, будут с радостью препятствовать моему возвращению. А между тем, мне нелегко здесь без лошадей и кареты.
Спустя несколько месяцев, герцог попросил выслать к нему гончих на лису и егеря, потому что собрался завести охоту на оленей и местность здесь кажется пригодной для отличной охоты на лис.[135] В августе из Англии к отцу выехала и принцесса Анна. В Брюсселе постепенно рос теневой двор, столпами которого стали леди Питерборо, леди Беласис и чета Черчиллей. Добавим к ним прекрасную Френсис Дженнингс. Читатель Граммона припомнит её заносчивое постоянство во всех искушениях двора Карла: она отвергла герцога Йоркского: сам влюбчивый монарх неоднократно не добивался желаемого: за нею тщетно волочился Безумный Дик Тальбот; в конечном счёте, она вышла за лорда Гамильтона. Но лорд Гамильтон погиб в бою под Зиберштерном и Френсис уже три года ходила прекрасною вдовой. Две сестры были счастливы сойтись снова, пусть и ненадолго. Всё это время изгнанников терзали новости из дому. Их приводили в смятение растущая в народе популярность Монмута, лютости вигской фракции, успешный ход Билля об Отводе. Черчилля спешно отсылали с малоперспективными поручениями: сегодня к Карлу в Англию, завтра к Людовику в Париж, отстаивать интересы несчастливого хозяина. Он знал каждого, знал все подходы. Его хорошо принимали везде: виги - как протестанта; католики - как агента Джеймса; он мог ходатайствовать, нашёптывать в уши властных персон. Он использовал каждую возможность.
В августе король заболел. Те, кто видели симптомы, кто знали, как он истаскался в излишествах, отчаянно встревожились. В те дни Черчилль был в Англии. Сандерленд, Галифакс, Годольфин, Февершем, де Керуаль сошлись на одном: пора послать за Джеймсом. При переходе короны в отсутствие Джеймса, виги, несомненно, попытались бы посадить на трон Монмута, и Черчилля послали за Джеймсом: тот должен был ехать домой. И герцог выехал немедленно, едва потрудившись скрыться под маскировкой. Лорд Лонгфорд оставил нам яркий отчёт об этом путешествии.
Лондон.
6 сентября, 1679.
Лорду Аррану.
В последнем моём письме, я писал вашему сиятельству об изумлении, с коим все мы встретили герцога, явившегося вечером в понедельник. Он покинул Брюссель, и, ограничившись в маскировке чёрным париком и простым шерстяным костюмом без Звезды и Подвязки, быстро доскакал до Кале в компании лорда Питерборо, полковника Черчилля, мистера Дойли и пары лакеев без ливрей. Там он нанял корабль, настолько плохой, что при хорошем ветре провёл в море девятнадцать часов, прежде чем дошёл до Дувра. На почтовой станции, Черчилль, выступая при своей орденской ленте словно французский офицер, прикинулся главным лицом компании; он был известен начальнику почты; тот [начальник почты] приветствовал его, жал руку и говорил, как рад встрече, но божился, что стал бы просто счастлив, когда бы увидал здесь человека поважнее, не сводя глаз с герцога и понимая при том, что тот не хочет стать узнанным, раз пришёл сюда в замаскированном виде. Черчиллю подали лучшего коня, а когда в седло садился сам герцог, некоторый человек, служивший при почте, подошёл к герцогу с другой стороны и, уставившись ему в лицо, стал бормотать что-то себе под нос так тихо, что никто не расслышал ни слова, но герцог пренебрёг этим и поскакал прочь. Никто, кроме этих двух не узнал его по дороге. А те должно быть не раскрыли секрета. Милорд Питерборо и Дойли отстали, так что в понедельник в семь вечера, к барбикану, что в Смитфилде, успели лишь его высочество, Черчилль и один лакей; оттуда, в наёмной карете они поехали в адвокатскую контору на Ломбард-стрит, где Черчилль вышел справиться о Филе Фроде - дома ли - но тот вышел, и Черчилль оставил записку, чтобы Фрод, когда появится, следовал к сэру Элину Эпсли, и не открыл при том, что вместе с ним приехал и герцог. Герцог отужинал и переночевал у сэра Элина, а в три утра взял карету до Виндзора и пока туда не явился, о приезде его никто не знал; приехал он около семи, прошёл в гостиную короля и дверь ему открыл дежуривший в то утро при опочивальне милорд Сассекс; когда герцог вошёл в спальню, когда подошёл к кровати короля, он, с великим смирением, пал на колени и просил у короля прощения за то, что приехал в Англию без дозволения, объясняясь тем, что стал так огорчён новостями о болезни короля, что не мог ни успокоиться, ни довольствоваться узнанным, желая сам увидеться с его величеством. И вот теперь он имеет счастье видеть короля вне опасности (за что благодарит Бога) и готов пуститься в обратный путь сим же утром ради удовольствия его величества; он ведь приехал в решимости непременно руководствоваться и подчиняться воле его величества во всём. На этих словах его величество обнял его, расцеловал и принял его со всей возможной добротой, а присутствовавшие там говорят, что оба заливались радостными слезами во время беседы.[136]
Настроение нации в то время было таким, что Карл не дерзнул оставить брата при себе. Он разрушил первую попытку Билля об Отводе, распустив парламент, попробовавший провести этот билль; теперь выборы дали новую палату общин, столь же громкоголосую и настроенную куда решительнее. Новый Билль об Отводе шёл на утверждение законодательным порядком, и корона не получала от парламента ни гроша. Ярость времени разрушила верноподданичество и в близком круге короля: министры, придворные и фавориты более того, и любовницы перешли в оппозицию. Луиза де Керуаль, ставшая герцогиней Портсмутской, воспользовалась самыми убедительными аргументами. Она успела искренне привязаться к Карлу и, не заботясь более о французских интересах, стала наставлять короля к его собственной пользе. Зачем Карл, в угоду неразумному, всеми ненавидимому брату, рушит собственное царствование? Отныне антагонизм между Луизой и Джеймсом стал основным движителем политического беспорядка. Годольфин, человек умеренный и уступчивый, остался при своём офисе, хотя и голосовал за отвод. Король попал в отчаянное положение. Никогда в жизни он не действовал с такими мужеством и мудростью, как в те дни, отстаивая искренне любимого брата. Он твёрдо придерживался буквы конституции, но с вежливой ловкостью использовал всякую законную возможность, всякую возможную отсрочку. Теперь он склонился пред бурей и отослал Джеймса назад, в Брюссель.
Черчилль сорвался с места, едва успев оповестить Сару в Брюсселе о том, что прибыл с герцогом в Лондон - его отправили в Париж. На этот раз ему предстояло способствовать плану Джеймса: перелицованный союз с Францией, возобновление субсидий, что освободили бы Карла от зависимости в парламентских деньгах, а самого Джеймса от угрозы исключения из престолонаследования. В сопроводительном письме, Джеймс представил Черчилля так: Мой хранитель гардероба, кому я всецело доверяю. Карл дал согласие; Черчилль получил от королевского казначея 300 фунтов на расходы. По инструкциям, он, от лица Джеймса, должен был обещать, что впредь станет принимать интересы французского короля, как собственные; что просит извинить своего господина за проступки двух последних лет, когда тот энергично поддерживал Вильгельма Оранского и даже выдал дочь, Мари, за этого заклятого врага Франции. Переговоры ни к чему не привели. Людовик не раскошелился на приличную сумму.[137] В том, что касалось Англии, он знал, как потратиться с лучшими для себя результатами. Черчилль вернулся в Брюссель в октябре.
Но тут терпение Джеймса лопнуло. Он отказался жить долее в Бельгии. Он собрался в Англию, отправив вперёд себя Черчилля, чтобы тот получил [для герцога] разрешение отправится в Лондон и оттуда наземным путём в Шотландию.[138] Разрешение было предоставлено. Одновременно, для пущей уверенности Джеймса, король изгнал из Англии Монмута. Итак, теперь из-за границы за здоровьем монарха следили три пары взыскующих, бдительных глаз: Джеймс из Эдинбурга; Монмут и Вильгельм Оранский из Гааги. Дальновидный Вильгельм расточал любезности обоим своим соперникам, и придерживался неизменно корректной манеры в обращении с Карлом.
Итак, в октябре, Джеймс, отъезжая из Гааги домой, расцеловал на прощание дочь Мари как оказалось, в последний раз и выехал в Эдинбург, сухопутным путём через Лондон. Путешествие прошло так, словно по стране двигалась королевская процессия; большие города и крупные поместья оказывали путникам почтительное гостеприимство. Они достигли Эдинбурга через тридцать восемь дней, и, с должными церемониями, устроили там двор. Черчилль безотлучно ехал при свите; Сара, бывшая в тягости, осталась ждать родов в доме Джона на Джермин-стрит. К ней подъехала и прекрасная Френсис, так что две сестры устроились под одной крышей. Ребёнок, Херриот, родилась в конце октября и умерла во младенчестве. Молодой семье пришлось пережить очень беспокойный год и провести половину супружеской жизни без дома, без никакого места для спокойного существования. Теперь они оказались далеко друг от друга. В те дни, Шотландия считалась далёким краем - как теперь Канада; и путешествие в те места по земле или по воде было тяжким и опасным. Такими превратностями оборачивалась для них нужда.
Перейдём к грустной главе нашей истории. Пока сила Франции росла, подчиняя Европу, Англию сотрясали политические бури и, между 1679 и 1683 годом, вся ярость их рухнула на герцога Йоркского. Наследник переменил вероисповедание и стал причиной зла, павшего на королевский дом. Честное движение души одного человека разбередило жизни миллионов. Ответственные люди обременились нелёгкой мыслью: допустимо ли положение, когда один властный человек пусть из благих побуждений вынуждает страдать очень многих, расстраивает жизнь целого народа. Вернейшие слуги трона, убеждённые поборники Божественного права смотрели на Джеймса с возмущением, находя, что тот стал бременем, главной причиной затруднений и тревог для своего любящего брата, короля Англии. Джеймс, папист-наследник, сотрясавший престол эгоистическим фанатизмом, стал общественной досадой. Он оказался в неприкрытой изоляции; его окружение сильно поредело; для Джеймса пошли мрачные годы: сначала подневольное изгнание в Бельгию, затем ссылка в Шотландию. И он со всем упорством сильной своей натуры утвердился в гневном презрении, обратив его на бесчисленных врагов собственных по наследованию подданных. Испытания решительно и навсегда исказили характер Джеймса. Он ощутил некоторое упоение мученичеством и стал готов претерпеть всё и рискнуть всем ради сокровенной веры.
Джон и Сара провели в этом опальном кружке, при дворе гневного, беспокойного принца более четырёх лет, считая от начала их семейной жизни. Война закончилась; наступивший мир отнял у Джона и деньги и перспективу служебного продвижения: он успел увериться в собственном военном даровании, нажил опыт, но потерял возможность им пользоваться. Черчилль, в силу множества уз, должен был следовать за нелюбимым хозяином, хотя предпочёл бы уклониться нет, говоря по правде, бежать от службы, противной его натуре и мировоззрению - бежать от патрона, кто стал изгоем; бежать от того общественного презрения, что било по наследнику, но, в какой-то степени, распространялось и на герцоговых слуг. Между Джоном и его господином, между протестантом и католиком, разверзся едва ли преодолимый разлом. Черчилль служил Джеймсу умело и верно. Много раз, он, рассудительный споспешник с даром убеждения, вёл тайные и деликатные переговоры с королём Франции, с Карлом II, с придворными и партийными деятелями. Джеймс крепко держался за Джона: тот был незаменим в важных делах и известен патрону с детства. Но никакая, самая ревностная и успешная служба, не могла стать мостом между враждебными религиями. Английские католики и прежде всего Джеймс, их фанатический защитник с ближайшим кружком друзей объединились не лишь в силу общего кредо, но стали братством, товариществом гонимых за веру. Они думали одними думами, говорили на одном языке. Но им, поневоле, приходилось иметь дело с протестантами. И Черчилли стали незаменимыми посредниками между ними и внешним миром. Тот факт, что эта семья, двое известных протестантов пользовались отличным доверием Джеймса, можно выставить свидетельством терпимости наследника престола. Но во времена, когда религия владела умами, когда католики стали запрещённой и гонимой сектой, меж ними и окружением герцога не могло прорасти искренней близости. Они с нами - так мог бы воскликнуть Джеймс, оставшись в тесном кругу непримиримых священнослужителей и единоверцев - они с нами, они полезны нам, но, увы, они не одни из нас. И так продолжалось до самого конца.
Тем не менее, радостные хлопоты первых супружеских годов помогали Саре и Джону жить в этом неприятном, нервном, взбаламученном окружении. Семейная жизнь стала их личным, внутренним, укреплённым владением, за стенами которого остались затруднения герцогова двора со всеми его бурлениями, поднятыми общенациональной враждебностью. И нам приходиться описывать здесь блуждания Джона и Сары туда и обратно, по мере того, как менялась, к добру или к худу, фортуна их господина.
Несколько писем от Джона: он написал их Саре на Джермин-стрит по дороге на север, в Шотландию.[139]
* Ты без труда поймёшь, как мне нелегко с тех пор, как мы расстались, ведь никому из рода людского никогда не была ведома такая любовь; клянусь, что за всю жизнь не полюблю другую: люби меня, а я буду любить тебя вечно. Я поговорил с мистером Фродом, так что тебе достаточно передавать письма ему, а он найдёт способ сохранно доставлять их мне. Вслед за нашим расставанием, я имел беседу с самой леди Сандерленд, и та пеняла мне на то, что я не оставил тебя на её попечение; впрочем, несмотря на моё в том нерадение, она, в любом случае, будет заботиться о тебе. Так что прошу быть с нею повежливее - при нынешних обстоятельствах тебе очень пригодиться дружба с нею. Мистер Легг уезжает от нас эти вечером, к его отъезду я напишу ещё; а пока, свет очей моих, до свидания.
Стилтон, понедельник, вечер [1 ноября 1679?]
* Итак, ты видишь, что я благополучно добрался до этого места, а завтрашним вечером собираюсь быть в Донкастере. Я весьма устал, проехав за сегодняшний день путь, вдвое больший, нежели одолевал когда-либо в седле; если я продолжу так и завтра, то окажусь в Шотландии к субботе, но твёрдо не обещаю тебе этого, претендуя лишь на то, чтобы оказаться в Бервике вечером пятницы. Будь покойна, ты услышишь обо мне немедленно по окончании путешествия, и, умоляю, верь, что кроме тебя я не люблю никого в мире; прими уверение в том, что я, ежеминутно, всем сердцем, желаю быть с тобою вместе. Итак, заклинаю тебя: будь готова к спешному отъезду, как только это станет для тебя возможным, ибо если мне не позволят вернуться, я сообщу тебе об этом на следующий же день с настоянием ехать ко мне немедленно, и, уверяю, что встречу тебя с великой радостью.
Поцелуй от меня дочку.
Эдинбург
15 января, 1680.
Я получил твоё письмо от 10-го с копией того письма, что ты писала моей матушке, и если она нашла в нём что-то обидное, ты должна отнести это на счёт старческой сварливости, потому что там нет ровно ничего, что можно счесть за обиду. Думаю, ты поступишь очень верно, если напишешь ей снова, потому что она моя мать; в конечном счёте, она благоразумно не пожелает прослыть сварливой, я верю в это. Я очень хочу, чтобы месяц этот наконец закончился, и чтобы меня отпустили отсюда, ведь это очень тяжко - жить в разлуке, и, уверяю тебя, что несчастен один, постоянно думая о тебе, ведь я люблю тебя так, что тебе невозможно и желать лучшего.
Он добавляет сообщение, адресованное Френсис:
Прошу, скажи вдове, что я к её услугам; ещё скажи, что я очень доволен тем, что она не вышла замуж, и если она ждёт моего дозволения, она его никогда не дождётся.
Френсис не приняла этого совета; безумный Дик Тальбот, впоследствии граф Тирконнельский, наместник Джеймса в Ирландии, возобновил ухаживания, жестоко отвергнутые шесть лет тому назад. На сей раз он добился успеха. Очаровательная Френсис вовлеклась в католико-якобитский мир и, после 1688 года, дотлевала в изгнании.
17 января, 1680.
Я всей душой желаю быть с тобою; теперь, когда мы в разлуке, уверяю тебя, что у меня остались только два удовольствия: писать тебе, да читать твои письма, да утешать себя тем, что через недолгое время я стану воистину счастлив, снова соединившись с тобою. Я так люблю тебя, что если бы одно это могло сделать тебя счастливой, ты непременно стала бы счастливейшей из женщин: никто никого не любит так, как люблю тебя я. Надеюсь, что с первой же почтой следующего месяца, пошлю тебе весточку о том, что должен уехать отсюда, чего всем сердцем желаю - не потому, что мне не нравится эта страна, но из великого стремления быть с тобою, а теперь ты дорога мне, как никогда прежде.
Он затейливо добавляет обращение к десятинедельной на тот день дочке: Весь к услугам Херриот.
И несколькими днями спустя:
И пусть я уверен в твоей любви, ты, всё же, не любишь так сильно, как я, поэтому тебе нельзя вполне понять, как я желаю быть с тобой. Клянусь, что в первую ночь, когда я благословением неба смог взять тебя в объятия, я не желал тебя более, нежели теперь, когда снова стремлюсь быть с тобою; ибо если кто из мужчин во все времена и любил истинной любовью, это один лишь я, и клянусь, что если бы мы не были женаты, я стоял бы сейчас на коленях, предлагая тебе стать моей женой, и это так - оттого, что я уважаю тебя так же сильно, как люблю.
Всего наилучшего твоей сестре.
Он стремился выбраться из Шотландии домой, в Англию, к жене и ребёнку.
Эдинбург 29 января 1680.
[Получил] твоё от 22-го, и сегодня же от 24-го; в обоих ты сомневаешься в том, что я уеду отсюда в начале следующего месяца, как обещал; я же до сих пор в том уверен; впрочем, как написал в последнем письме, не стану впредь и заранее говорить об отъезде, чтобы не расстраивать тебя. ... Лондон и Эдинбург [не?] одно и то же, и развлечения, что ты [я] можешь найти в Лондоне, совсем не чета здешним, так что тебе не придётся читать моих извинений в том, что я не писал, будучи занят в обществе. Через час после отправки прошлого к тебе письма, ко мне возвратились прежние мои припадки, сначала один, прошлой ночью другой, так что два этих дня я страдал сильнейшей в жизни головной болью; сегодня принял лекарства, думая, что полегчает, но... [страдания] печалят меня, ведь я люблю тебя так сильно, что не умею смириться с мыслью о том, что смерть разлучает навсегда мне, кто любит тебя сверх всякого воображения, ужасно так думать. Пришёл доктор, и запрещает мне писать, говоря, что хуже занятия для меня не придумаешь. Итак, моё Всё, до свидания!
Он ждал хороших вестей с юга и чаяния сбылись: в тот самый день, когда стало написано последнее письмо, Карл прислал брату любезный приказ о возвращении. Джеймс, не теряя времени, оставил шотландское правление и, в конце февраля, переправился со двором из Лейта в Детфорд.
Накануне отплытия Черчилль писал жене:
молись о хорошем ветре, иначе мы останемся либо здесь, либо надолго в море; боюсь, что морская болезнь при долгом плавании доконает меня, ведь мне и сейчас нехорошо: мигрень никак не отпускает, за всю жизнь я не терпел таких долгих приступов; надеюсь, что к моему приезду дитя избавится от цыпок, что у неё прямой носик, и что она, к моему удовольствию, похожа на мать ведь у неё твой цвет волос, и я хотел бы, чтобы девочка и в остальном стала похожа на тебя.
В начале марта семья соединилась и зажила в комнатах на Джермин-стрит; там Джон впервые увидел своё дитя. Мы не знаем как долго жил этот ребёнок. Возможно, скорбная весть о смерти дочери пришлась на самый приезд Джона.
Джеймс провёл лето 1680 года в Англии, надеясь, вместе с королём, на лучшую терпимость к нему нового парламента, что должен был собраться в октябре. Понятно, что получив передышку, Черчилль весьма постарался найти какое-то место, способное обеспечить устойчивое существование ему и всему его семейству. Он резонно притязал на командование одним из кадровых полков, например Адмиралтейским; на губернаторство Ширнесса или на какое-нибудь заграничное посольство. Джеймс был доволен его службой, и всячески отстаивал интересы Черчилля, поставив, однако, требованием одно фатальное условие: Пока я разлучён с ним [Карлом II] писал он Хайду в декабре 1680 я, по своей воле, не отпущу Черчилля.[140] Когда хорошие надежды питали Джеймса, он пытался найти место своему слуге, но не мог обходиться без него в разочарованиях.
Итак, летом 1680-го Джеймс нашёл, что Черчиллю подойдёт место посла во Франции или в Нидерландах - во втором случае Джон мог опереться на поддержку Вильгельма. Доклад Барильона от 20 мая 1680 года:
Мистер Сидни [посол Англии в Гааге] скоро уедет домой. Здесь полагают, что он не вернётся и мне говорили, что преемником вполне может стать мистер Черчилль [le sieur Chercheil]. Такое назначение удовлетворит герцога Йоркского и поможет ему во всех дальнейших переговорах с принцем Оранским. Он [Джеймс] не доверяет Сидни, питая к нему старую неприязнь. Черчилль, наоборот, пользуется полным доверием патрона ваше величество сами заметили это, когда Черчилль имел честь предстать пред вами в прошлом году. Он человек неопытный в делах. Но здесь ходят толки о словах принца Оранского: тот заявил, что желает видеть английским послом в Голландии лишь Черчилля и никого другого - пусть Англия пошлёт послом понятливую и несвоевольную персону, для принца Вильгельма этого достаточно.[141]
Разговоры о другом назначении - послом в Париже - обидели человека, кто занимал тогда это место - Генри Савиля - и тот написал протест своему брату, лорду Галифаксу:
Я слышал, что мистеру Черчиллю так нравится моё место, что он возымел на него намерение, привлёк к этой задумке своего господина, и пустился в коварные и искусные предприятия, долженствующие заставить моих друзей отозвать меня под тем предлогом, что я живу слишком широко, к собственной пагубе.
Галифакс, вошедший к тому времени твёрдую и прочную дружбу с Джоном, ответил немедленно: Черчилль, при любых его намерениях стать послом, никогда не решится уплатить за это место высокой ценой моего расположения.[142] Разубеждённый Савиль объяснил Галифаксу, что обнаружил источник своих сведений: беглое замечание герцога Йоркского громко подхваченное городскими слухами. Но все эти надежды и планы, мнимые или реальные, не возымели действия. Новый парламент оказался несговорчивее предыдущего. Во главе пламенной оппозиции встал Шефтсбери. Новый Билль об Отводе прошёл в Общинах с неимоверной быстротой. Ярость вигов не знала удержу, и буйная эта ярость шла об руку с их распущенной порочностью. Дела вигов были благими для Англии, и мы, в своём месте, подробно остановимся на них. Но методы их стали испятнаны необыкновенными даже и по тому времени мздоимством и двурушничеством. Все без исключения лидеры вигов брали французское золото на партийные либо личные нужды, одновременно крича против папистских интриг и отвергая всякие соглашения с Францией. Людовик следил за их грязными делами с циничным удовольствием. Его агент, Барильон, надзирал за головокружительными коловращениями Вестминстера и Уайтхола, рассудительно распределяя взятки между сторонами фракционных боёв. В его платёжных ведомостях, с полной беспристрастностью, значились много знаменитых имён, вигских и торийских. Упомянем среди них леди Харви, сестру вероломного экс-посла Монтегю. Лорд Холис, Хемпден сын знаменитого отца; герцог Бакингемский: они получили по тысяче гиней. Элджернон Сидни, отдавший вскоре свою жизнь, получил в возмещение пятьсот гиней. Если король и его министры получают золото от Франции на свои папистские затеи, долю в бесчестных деньгах должна иметь и добродетельная протестантская оппозиция таким стало господствующее настроение. А Людовик поддерживал огонь партийной борьбы, обращая в дым силу Англии.
В позорном списке взяточников выделяется одно имя выделяется своим отсутствием. Мы говорим о Черчилле. Вообразите, с каким удовольствием Барильон опустил бы тысячу гиней в руку нашего бедствующего полковника, этого претерпевающего от нужды семьянина! Умелый посол, как мы успели заметить из его переписки, не принадлежал к друзьям Джона. Он прилежно собирал и тотчас докладывал все грязные слушки и уничижительные мнения. И Черчилля, этого влиятельного, вездесущего посредника, протестантского агента герцога Йоркского стоило запятнать даже и без вины. Потом, много лет спустя, Сара написала: Герцог Мальборо никогда не брал взяток. Подумайте, с каким вниманием инсинуаторы Мальборо читали и читают всю сохранившуюся документацию. Как они тщатся возликовать и выставить напоказ всякий клок этих мусорных свидетельств. Но никто так и не смог опровергнуть утверждения Сары.
С началом заседаний враждебного парламента Карлу, как и прежде, пришлось удалить любимого брата подальше. Отчаявшийся герцог, попросив Черчилля свести его с Барильоном, умолял посла, чтобы тот добился у Людовика денег, позволив королю обходиться без ассигнований ужасной палаты общин. Джеймс упрямо не желал отправляться из Лондона в третье изгнание. Чтобы переупрямить его потребовались совместные усилия короля и двух государственных секретарей, Сандерленда и Дженкинса, при помощи Галифакса и Эссекса.[143] Герцог не выдержал страшного нажима. 20 октября, он, против всякого желания и со всеми домочадцами отбыл по морю в Эдинбург. На этот раз Черчилли уехали вместе. Семья вытерпела тяжёлый пятисуточный вояж. Джеймса встретили с почётом, но после того, как знаменитая пушка по имени Монс Мег разорвалась, салютуя наследнику, многие суеверные злословили его, кивая головами своими. На этот раз Джеймс принялся руководить Шотландией всерьёз, и личность его с запечатленными в ней скорбями, обернулась для страны бедою.
Из Шотландии пошла, там же и закончилась династия Стюартов. Управление этим северным королевством стало самой прискорбной особенностью царствования Карла II. Около двадцати лет, главной пружиной шотландского правительства оставался герцог Лодердейл, самый способный, самый низкий, единственный вельможа из Кабаля, оставшийся при офисе. Он был женат на леди Дисарт, женщине очень жадной: Бёрнет назвал её ненасытно жадной и той, кто не погнушается никакими средствами, преследуя выгоду.[144] Лодердейл, в прошлом ковенантер, возможно вольнодумец, с изрядным умением поощрял и пользовался местными усобицами и фанатизмом. В то время платформой шотландского национализма была не политика - как в Англии - но церковь. Реформация в Шотландии началась периодом яростных самосудов и кончилась революционным взрывом. Холодные, мрачные, неизменные ненависти раздирали шотландский народ. Используя вражду между лоулендерами и хайлендерами и религиозные разломы, Лодердейл поддерживал баланс сил, посредством которого могла держаться королевская власть. Кромвель дал Шотландии парламентскую унию с Англией. На Границе расцвела свободная торговля, на опрокинутом господстве пресвитериан утвердился гражданский мир. При Карле парламентская уния стала расторгнута, запретительные тарифы заморозили товарные потоки и рост благосостояния. Лодердейл привёл страну в упадок. Он извлекал большие прибыли для короны, держа в стране верную кадровую армию, жестоко пресекая пылкое сопротивление ковенантеров. Архиепископ Шарп был зверски убит при восстании в Магус Мьюире. Монмут умелыми и умеренными методами подавил яростный мятеж 1679 года. Жестокости с той или иной стороны распространились повсюду.
Теперь Джеймс приступил к деятельной активности в этих краях. При первом приезде в Шотландию, правление его выглядело умеренным на фоне свирепств Лодердейла.[145] Я живу здесь писал он по возможности осторожно, стараясь не причинять обид никому. Теперь, в 1680-82 годах, он шёл напролом, утверждая свои власть и право с жестокостью обиженного и живостью гневающегося. В июне 1681 года, получив доставленный Черчиллем из Лондона патент Королевского уполномоченного, Джеймс решил воспользоваться парламентом Шотландии для чёткого и недвусмысленного подтверждения своего права на престолонаследование. Он созвал первый после 1673 года шотландский парламент. Он решил, что здесь и в малом масштабе сумеет преподать брату, повелителю всей Англии, пример должной политики. В 1681 году он провёл в парламенте билль против Отвода. Он хлопотал над организацией шотландской, антинародной армии. Он опёрся на диких горцев единственных католиков, кто оказались под рукой чтобы обуздать непослушание лоулендеров. Испанский сапог стал общеупотребительным средством против ковенантеров и прочих упрямых инославцев. На такие случаи, большинство высоких персон Тайного совета находили повод удалиться из пыточной. Но злые перья утверждают, что герцог Йоркский неизменно оставался на посту. Мрачные и отвратительные времена для Шотландии!
В то время ближайшим другом Черчилля в круге приближённых Джеймса был Джордж Легг, верный человек, с отличным послужным списком морского капитана во всех англо-голландских войнах. Он долго служил герцогу Йоркскому в камер-юнкерах, затем стал камергером, потом шталмейстером двора. Несколько лет он был губернатором Портсмута, а в январе 1681 года стал начальником вооружений. Герцог относился к нему совершенно по-отечески и использовал все возможности, чтобы оставить за Леггом оба офиса. В конечном счёте, Легга вынудили расстаться с Портсмутом. Он был родственником Черчилля со стороны матери, по упомянутой - мы говорили о ней - нити Вильерсовой крови. В благосклонности герцога он ранжировался куда выше Черчилля; а Джон, определённо, сам метил на удобную должность начальника вооружений. Тем не менее, после назначения Легга, Джон написал тому приятное и характерное письмо:
Узнал из вашего обращения к герцогу, что время пришло и что теперь вы начальник вооружений. Вы, разумеется, не усомнитесь в том, что я тому рад; и будьте уверены, я желаю вам оставаться на этом месте надолго, настолько, чтобы вы вполне воспользовались всеми его преимуществами; но на правах одного из ваших друзей позволю себе заметить, что вы будете несправедливы к собственной семье, если не приведёте в должный порядок свои дела; вы непременно добьётесь этого, если начнёте жить по средствам и постараетесь в срок очистить от долгов свои владения. Более ни слова; но если я узнаю, что вы предпочитаете широкую жизнь благополучию ваших детей, ждите от меня нареканий при встрече.[146]
Он подписался ваш любящий родственник, преданный друг и слуга. Позднее мы вернёмся к трагической судьбе Легга - к тому времени он станет лордом Дартмутским.
Черчиллю претила всякая тирания, но выбирать не приходилось; вдобавок, он оказался при трудном и деликатном деле. Джеймс обязал Джона вести со всем усердием - переговоры о своём возвращении к королевскому двору и претензионные дела против Монмута и сторонников Отвода. В то же самое время, высокие лондонские друзья Черчилля Сандерленд, Галифакс, Годольфин и Хайд просили его любой ценой удерживать Джеймса в Шотландии. 22 декабря 1680 года Сандерленд писал ему Всецело присоединяюсь к просьбе Хайда: помогите убедить герцога в том, что если что-то в этих письмах и кажется ему неприятным, таковы настояния благоволящего ему короля.[147] Ровно через месяц (22 января 1681) Черчилль прибыл в Лондон с конфиденциальной миссией: Джеймс требовал от короля, чтобы тот не дозволял парламенту заседать и чтобы Карл добился для него возвращения из ссылки, заключив союз с Францией.[148]
И Джон, как никто другой, сумел выдержать курс между конфликтующими течениями, действуя с благоразумием и проницательностью. Он исполнял джеймсовы инструкции с должными старанием, осмотрительностью, но, в то же время, и с хладнокровной осторожностью: не доводя опаснейшие проявления хозяина (так, тот хотел поднять на собственную защиту шотландцев и ирландцев) до практических последствий, и честно признался послу Франции в том, что Джеймс ни за что не удержится в Шотландии, лишившись помощи короля-брата.[149]
Единственным оппонентом Джеймса в Шотландии стал девятый граф Аргайл[150], человек апатичный и мечтательный. Герцог Йоркский - пишет Бёрнет - поняв великое значение графа Аргайла, пришёл к необходимому заключению: привлечь его или уничтожить. Поначалу и тщетно он попытался обратить графа, упрашивая переменить наихудшую из религий на наилучшую. Когда собрался парламент, Аргайл воспротивился статье шотландского Тест-Акта, освобождавшую членов королевской фамилии от протестантской присяги на верность. Джеймс разозлился и сразу же после начала парламентских каникул возродил в новой форме план, направленный против графа. Предложено было следующее: обратиться к Карлу с тем, чтобы назначенная королём комиссия пересмотрела права Аргайла, сняла его со всех наследственных должностей, оплатила его имуществом голословно предъявленные долги. Аргайл покинул Эдинбург, чтобы подобрать документы, подтверждавшие его права на должности, а по возвращении провёл деловую встречу с Джеймсом в Холируде, в королевской спальне, протестуя против заочного - пока он был в отлучке - отрешения от одной из должностей. Если, говорил Аргайл, это выражение неодобрения, то я не видывал ничего подобного от его величества за тридцать лет службы. Я знаю, что имею врагов, но они никогда не смогут поколебать меня в моём долге и непреклонном служении его величеству...
Черчилли никоим образом не соглашались с курсом шотландской политики патрона; они, что совершенно неоспоримо, проникались растущим отвращением и к автору и к его деяниям. Спустя три поколения старая герцогиня писала в своих заметках на историю Ледьярда:
* Все, что написано в его Истории Герцога о судебных процессах в Шотландии - правда; я видела это собственными глазами, и очень горевала о судьбах нескольких людей, кто стали казнены без единого в целом свете повода, но лишь за то, что они не захотели отречься от того, что сказали - от слов, что Карл Второй разрушил их Ковенант. Я была на некоторых разбирательствах и рыдала, глядя на жестокость, обращённую против этих людей лишь за то, что те предпочли смерть лжи. Как счастливо зажила бы эта страна, будь в ней побольше таких людей! Я помню глубокую скорбь герцога Мальборо в день, когда он услышал разговор между графом Аргайлем (впоследствии обезглавленным по обвинению в том, что, будучи приведён к присяге, произнёс клятву в смысле своего понятия о служении Богу и Королю) и герцогом Йоркским. Тот обращался к герцогу [Йоркскому], и герцог Мальборо говорил мне, что никогда прежде не слышал речей с лучшими доводами; когда граф останавливался на тех вопросах, что требовали решения, герцог ни разу не дал ответа, но лишь повторял - вы должны извинить меня, милорд... вы должны извинить меня, милорд... и так длилась долгая беседа, и он не дал ни единого ответа.
Ещё я припоминаю случай, рассказанный мне герцогом Мальборо, когда мы жили в Шотландии: герцогу Йоркскому пришло собственноручное письмо от Льюиса, гранда, и вся семья герцога пришла в великое недоумение оттого, что никто не мог прочесть этого письма. Но все вполне поняли, что это строго [секретная] переписка между герцогом и королём Франции. Герцог Мальборо говорил мне о всяких вещах с великой печалью; но у него не было никакой власти, чтобы помочь хотя бы и одному человеку.[151]
При очевидной предвзятости герцогининого мнения, слова её, с определённостью, свидетельствуют о разломе, отчуждении Черчиллей. Герцогиня записала эти примечания в возрасте восьмидесяти лет, а память всех старых людей верно откликается на впечатления юности, ярко пробивающиеся сквозь слой дальнейшего опыта.
В августе 1681 года дела герцога Йоркского в Англии стали плохи как никогда; король отчаялся осаживать гонителей брата. И Джеймс стал объектом согласованных усилий наследника просили принять, хотя бы для видимости, религию своих будущих подданных. Мольбы Джеймса о возвращении обернулись против него самого. Король выставил поход в церковь непременным условием возвращения. В самом деле, ведь герцог не отказывает своим присутствием парламент Шотландии, когда там проходят молебны? Раз так, он вполне удовлетворит своих доброжелателей, расширив границы таковой веротерпимости, решившись на мудрую уступку во благо первоочередной политической необходимости. Галифакс, человек с прочною славой разрушителя первого Билля об Отводе, изъяснялся в сильных выражениях. Если говорил он герцога не удастся принудить, друзьям придётся уйти от него, как уходит гарнизон, потерявший возможность обороняться. Все видели в покладистости Джеймса простое разрешение вопроса и великое облегчение для всей страны. Джеймс должен был уступить перед сильнейшими настояниями королевской фамилии, общества, всего государства и решение трудной задачи поручили брату первой жены наследника, Лоуренсу Хайду - впоследствии графу Рочестеру: он должен был склонить герцога к англиканскому вероучению. Трое слуг герцога - Хайд, Черчилль и Легг стояли ближе всего к наследнику, были ближайшими, самыми доверенными людьми среди его окружения. Они служили Джеймсу долгие годы. Герцог имел время убедиться в их верности. Легг был в отъезде, но Черчилль, без сомнений, помогал Хайду по всей мере своего влияния. Но ничего не вышло. Духовник решил дело, напутствовав Джеймса не шутить с ересью.
Неудавшееся это предприятие заслуживает отдельного внимания: Черчилль редко говорил о своих политико-религиозных убеждениях, но здесь высказался, оставив нам уцелевшее свидетельство, письмо к Леггу:
12 сентября 1681, Бервик.
Дорогой кузен,
Благодарю вас за хлопоты и участие в переезде ко мне жены и приношу вам извинения за доставленные тем беспокойства; надеюсь, впрочем, что случай этот не станет препоной между нами: ведь я, без прикрас, ваш друг и слуга по гроб жизни. Мой лорд Хайд, лучший из всех нас, расскажет вам обо всём произошедшем. Вы узнаете от него о полной безуспешности в желанном деле, так что мы - раньше или позже, но непременно - погибнем.[152] Как только Левен получит бумаги, герцог попытается [как того желает] найти скорейший случай, чтобы выйти в море и уехать из Шотландии. Я очень тревожусь, и надолго отвлеку ваше любезное внимание, если начну описывать все мрачные свои опасения, так что всецело положусь на объяснения господина моего Хайда, удостоверив вас, что при любом обороте дел, вы и лорд Хайд всегда найдёте во мне преданного слугу.[153]
По ходу дальнейшего повествования мы непременно вспомним об этом конфиденциальном письме: отметим, что Джон пишет ближайшему другу и родственнику за семь лет до революции 1688 года.
12 декабря 1681 года Аргайл попал под суд за измену он произнёс присягу так, как если бы клятва была согласна с протестантской верой[154], в то время как на самом деле она противна и этой вере и его убеждениям. Джеймс настоял на смертном приговоре. Накануне казни граф бежал, воспользовавшись уловкой из арсенала романистов, и на некоторое время затаился в Лондоне. Когда правительственные шпионы донесли королю сведение об убежище графа, терпимый Карл выгнал их прочь со словами: Вздор, вздор, загнанная куропатка!. Но брат короля иначе видел дело.
Черчилль сетовал на приговор Аргайлю. Он писал сэру Джону Вердену, секретарю герцога, что во имя старой дружбы - надеется на безнаказанность Аргайля; он писал Джорджу Леггу, уповая, что побег графа останется без последствий как маловажное дело.[155]
Автор Истории двух знаменитых генералов пишет, что Черчилль, будучи в Шотландии, спас от разорения и гибели нескольких бедных людей - тех, кто, сохранив остатки совести, стали неугодны действовавшему в то время закону. До нас дошли не только воспоминания восьмидесятилетней Сары, но разговор Черчилля с Барильоном о том, что Сандерленд ждёт от него (Черчилля) шагов к умиротворению Джеймса; о том, что ему (Черчиллю) откровенно претит обращение с Аргайлем. Перечисленные свидетельства достоверно говорят о растущих разногласиях искренних, скорбных между Джеймсом и его доверенным слугой, людьми разного политического нрава и мировоззрения.
Вожди шотландского народа не были людьми полумеры. Дурное, год за годом, обращение со страной проняло их до мозга костей; они обратились к практическим планам отмщения и решительно повернулись к принцу Оранскому. Цвет шотландской знати эмигрировал в Голландию с твёрдой и горькой мыслью о возвращении с оружием в руках. Все они стали неумолимыми врагами Стюартовой династии. В революцию 1688 года все, как один, лоулендеры Шотландии стали на сторону Вильгельма.
В 1682 году Черчиллю случилось оказать патрону весьма чувствительную услугу. Герцогиня Портсмутская стала беспокоиться об обеспеченном будущем. Она приглядела себе доход в 5 000 фунтов - прибыль Пост-офиса, выручавшаяся бесперебойно. Герцогиня отчаянно осаждала с тем Карла. Но все доходы Пост-офиса были пожизненно пожалованы герцогу Йоркскому; герцог же истово чаял избавления из шотландской опалы. Черчилль употребил на эту сделку не меньше сил и времени, чем в позднейшие времена на комбинации между участниками Великого союза в мировой войне; в конечном счёте, герцог согласился передать 5 000 почтового дохода мадам Карвелл в обмен на разрешение о возвращении в Лондон. В первой фазе этого дела, Джеймсу позволили приехать в столицу для личного участия в переговорах. Но негоция провалилась: для отчуждения доходов Пост-офиса требовался парламентский акт; братья, впрочем, возобновили личное общение. Тем временем, как то объяснится в следующей главе, власть стала возвращаться к королю. Вдобавок, Карл, тревожащийся о расположении Людовика XIV, решил доставить тому удовольствие, вернув брата-паписта на должное место при дворе. Долгожданное разрешение было дано. 4 мая 1682 года Джеймс подвёл черту под шотландскими делами, привёл на борт фрегата Глостер внушительную компанию важных персон и слуг и повёз свой двор домой.
Дальнейшая катастрофа легко могла бы, в свою очередь, подвести черту и под этой и под многими другими историями. Но она лишь бросила ещё один высвечивающий луч на отношение Черчилля к своему господину. Королевский корабль шёл при маленькой эскадре и нескольких яхтах на одной плыл сам Самуэль Пепис. Ночью, после двух дней в море, Глостер сел на опасную мель в трёх милях напротив Кромера, что на берегу Норфолка; мель эта известна как Lemon and Ore[156]. Примерно через час фрегат соскользнул с банки на глубокую воду и очень быстро пошёл ко дну. Море было спокойным, рядом оставались несколько кораблей и, тем не менее, из команды в три сотни человек спаслись едва ли сорок.
Выжившие в крушении и сторонние зрители оставили множество дотошных и противоречивых свидетельств. Одни превозносят герцогово самообладание, его морскую опытность, его решительные действия к спасению корабля; рассказывают, как жертвовали собою дисциплинированные матросы, кто, на краю морской смерти, приветствовали плывущего прочь наследника. Другие настаивают, что корабль оставили после ненужного и фатального промедления; указывают на повсеместное замешательство; говорят о безобразных драках за единственную шлюпку, и рисуют финал так: Джеймс, со своими священниками, собаками и горсткой близких друзей уходят от оставшихся, гибнущих без надежды людей, в большой лодке которая могла бы взять пятьдесят человек. Католики и тори, что совершенно естественно, настаивают на первой версии; протестанты и виги на второй. Мы не станем искать чести в этом споре. Нам важно, как видел это Черчилль. Он и Легг оказались в числе немногих, кого пригласил в шлюпку Джеймс, а значит в числе обязанных ему жизнью. Читатель предположит, что в этой истории Черчилль должен был безотчётно взять сторону хозяина, своего спасителя, и вслед за тем, судить о делах Джеймса с великой снисходительностью. Но Джон повёл себя ровно наоборот, жестоко раскритиковав герцога. Спустя шестьдесят лет, Сара, поясняя историческую книгу Ледьярда, написала такой комментарий:
В последнее чтение книги мистера Ледьярда я закончила главу о крушении Глостера (страница 40). Я же услышала правду, как только герцог [Мальборо] вернулся в Шотландию (а я была там) из его собственных уст: он яростно жаловался мне на герцога [Йоркского], на его упрямство и жестокость. Ведь если бы его убедили спасаться самому, как только выяснилось, что корабль непременно утонет, то по мнению герцога Мальборо ни один человек бы не погиб. Что до нехватки лодок для всех, те люди, как он сказал, утонули из-за упрямства герцога - тот не хотел поскорее уйти прочь, но остался из-за желания выказать фальшивую отвагу, думая произвести впечатление, чего на деле не вышло; и так он стал причиной гибели множества жизней. Но когда сам он оказался в опасности, и спастись успевали лишь те, кто были подле него и никто другой, он передал герцогу Мальборо свою саблю, чтобы тот остановил многих людей, кто, ради спасения жизни, собрались прыгать в лодку, несмотря на королевское в ней высочество, грозя потопить его. Дело было сделано, и герцог уплыл в сохранности, а все, оставшиеся на корабле, погибли, что и написано у мистера Ледьярда, но милорд Гриффин, долго служивший герцогу, успел спастись, оставшись на тонущем корабле: он выкинулся в иллюминатор и выжил, уцепившись за клетку с курами. Всё что пишет Ледьярд о загрузке шлюпки, о священниках и собаках правда. Но я не знаю, кто ещё спасся в лодке и все ли они были одной веры.[157]
У нас нет сомнений, что именно эту историю Джон тайно рассказал Саре, когда он и другие страдальцы, выжившие в кораблекрушении, добрались до Эдинбурга. Определённо, до Джеймса не дошло и шепотка о мнении слуги. Как бы то ни было, но мы понимаем из этого ретроспективного свидетельства доподлинное отношение Черчилля к Джеймсу. Это не антипатия, но откровенное порицание. Он служил герцогу ради долга и пропитания. Герцог держал его в услужении, потому что не сумел бы нигде отыскать лучшего работника. Но их отношения не стали откровенными. Двор герцога, к добру или худу, прибыл в Уайтхол летом 1682 года, а в декабре Черчилль получил награду за терпеливую, умную дипломатию и прочие ценные услуги: 21 декабря 1682 года он стал бароном Аймутским, пэром Шотландии.[158]
В рассуждении политики, немногие эпизоды английской истории поучительнее беспощадной, затянувшейся на пять лет борьбы короля Карла II с его экс-министром Шефтсбери. Мы наблюдаем противостояние, где стороны выступают в пёстрых составах, но в точно равных силах; зыбкие их платформы переменчивы; условия противоборства органичны лишь для Англии; фортуна меняет хозяина непредвиденно и мгновенно; оспариваются вопросы жизненной важности; оппоненты пускаются в смертельные предприятия. Три года Шефтсбери напирал и напирал со всевозрастающей силой. Три парламентских состава с нараставшим без спадов воодушевлением выступали на его стороне. Лондон, столичные богачи, муниципалы, судьи, толпа, решительно стояли за Шефтсбери. Вдаль и вширь, по всем градам и графствам Англии шёл страх папизма и рабства; боязнь эта глушила иные чувства и стягивала к великим вождям, вигам-вельможам, все группы и фракции левого крыла и центра небывалое единение со времён Великого мятежа. С такой поддержкой, Шефтсбери не имел недостатка ни в целях, ни в методах. Он извлёк всю, до капли пользу, из измены Монтегю и лжесвидетельств Оутса. Он, не ведая снисхождения, глядел как вереница безвинных людей, обвинённых по ложным показаниям кульминацией стал лорд Стаффорд идёт на смерть, на эшафот Тайберна. Он держал высокий тон с королём, говоря с ним, как держава с державою, требуя передать Портсмут и Гулль офицерам по парламентскому назначению; обвинял герцога Йоркского перед Большим жюри Лондона в папистском диссидентстве; угрожал королеве импичментом; использовал обретённую власть для всяческих приготовлений на случай вооружённого мятежа. Это был тот самый Шефтсбери, кто, всего лишь четыре года назад тогда он был министром Кабаля - уступил, приняв главные принципы Дуврского договора; кто - спустя ещё два года - одобрит французские субсидии и Декларацию о Веротерпимости: документ, где под именем веротерпимость католикам даровались свободы, запрещённые им во всех странах с протестантским большинством.
В первые три года борьбы, король - другая сторона - казался совершенно беспомощным. Все видели его слабость. Карла вынудили отказаться от Денби, верного агента, действовавшего по полной королевской доверенности; от человека, прикрытого щитом королевской индульгенции и Денби пять лет чах в Тауэре. Карл предпочёл поверить показаниям подкупленных или вероломных коронных свидетелей, кто выходили к барьеру от его имени, чтобы удостоверить Папистский заговор; он не уберёг страдальцев, обрекаемых клятвопреступниками, отказавшись спасти их по праву королевского помилования. Он стерпел позор изгнания брата и оскорбительные речи о своей королеве, обвинённой в покушении на его собственную жизнь. Он покорился и возможно потворствовал переходу любимого сына, Момута, к вождям вражеской партии.
На всё это время он схоронился в стенах сластолюбивого, роскошного двора, замкнулся со своими дорогостоящими любовницами в кругу встревоженных придворных, в пышности, купленной на дорого обошедшееся французское золото. А между тем, на заднем плане, за гневными заседаниями рассерженного, расколотого парламента вставала скандализированная пуританская Англия: старые кромвелиане, ветераны Марстон-Мура и Несби, молились о возврате прежних дней, а среди простых людей крепло убеждение, что Великая Чума и Великий Пожар пали на землю как наказание Божие по грехам владетеля. Король, до крайности уязвимый, прекрасно осознающий ужас своего положения, остался, тем не менее, при обыкновенной для него, спокойной храбрости; он вёл умелую, хладнокровную, мудрую политику; он удержал оспариваемую корону, вынес яростный шторм и переждал кульминацию бури. И, в конце концов, пришёл к триумфу! Триумфу внезапному и полному, невероятному для врагов и друзей.
Это была гражданская война, где бои и осады, уловки и атаки приняли вид судебных процессов по антигосударственным преступлениям; конституционных противостояний; парламентских и муниципальных манёвров. Это была борьба общественных мнений и борьба за общественное мнение; стороны дрались с яростью и жестокостью армий, сошедшихся в открытом поле. И события этой войны оказались на поверку муками, в коих родилось партийное правительство - его зачал Папистский заговор, его родовыми схватками стал Райхаузский заговор. Когда-то на английской земле сходились стороны Великого мятежа, теперь они трансформировались в партии: образования не столь живописные, но не менее свирепые. Три подряд избирательные кампании востребовали и породили клубы, знамёна, лозунги - формы, привычные до оскомины позднейшим, не столь кровожадным временам. Обоюдные ненависти и удары соперничества вигов и тори запечатлелись многими символами в двух веках английской истории. Тщетно Мальборо, глава победоносных армий обвинял позорные имена вигов и тори; тщетно Чатам величаво возглашал свою мольбу: Будем одним народом! Прочные в наше время сплавы, были тогда расплавами, льющимися в формы, откуда вышли характер и практика работы парламентских институтов не одного нашего острова, но каждой страны, где эти институты успели укорениться к дню сегодняшнему.
Поворотной точкой конфликта стал неожиданный роспуск парламента в 1680 году. После третьих выборов обе Палаты собрались в мае 1681 года в Оксфорде, чтобы избежать жестокого давления граждан, плебса, лондонских масс. В этом созыве, последнем в царствование Карла, собрались фракции, объятые яростью гражданской войны. Общины стали подобием польского сейма. Вигских лидеров окружили вооружённые сторонники, глядящие на королевскую охрану с откровенной ненавистью. Казалось, что новые Общины собрались лишь для того, чтобы заняться отлучением Джеймса от трона ревностнее прежнего состава коммонеров.
После королевской речи, Шефтсбери предъявил Карлу фактический ультиматум о престолонаследовании Монмутом. Мой лорд, с годами я становлюсь всё неуступчивее - ответил король. Столкнувшись с мнением собрания и найдя в Оксфорде лагерь вооружённых банд, готовых резать друг другу глотки за единое слово, Карл объявил роспуск парламента и, не теряя времени, уехал под сильным эскортом в Виндзор. Шефтсбери решительно предложил собраться обеими палатами на незаконную сессию. Но в умах рядовых членов возобладало сознание корпоративных обязанностей и группа тех, кто принимали решительный вид, рассыпалась в прах словно внезапный порыв ветра сдул все листья с дерева.[159]
Лишившись парламентского механизма, виги обратились к заговорам, а в глубинах заговора вызрело цареубийство. Распропагандированное желание отлучить Джеймса от престолонаследования нашло ответный отклик в широком разливе республиканизма. Сегодня любой замысел, кроме республики сказал Шефтсбери лорду Ховарду провалится среди моих сторонников.[160] Нельзя усомниться ни в том, что планам и даже приготовлениям вооружённого народного восстания был дан ход; ни в том, что некоторые значительные парламентские персоны приняли в этих делах активное участие. Знаменитые вожди вигов вели свою интригу, а за ними работали другие, тёмные, не в пример ожесточённые силы. Улицы Лондона рекогносцировал Рамболд с безжалостными кромвелианами. Группа заговорщиков обсудила план цареубийства в лондонской таверне и пришла к начерно согласованному решению: король и герцог должны погибнуть на дороге из Ньюмаркета, что проходит мимо дома Рамболда, Рай-Хауса. Этот и иные проекты, общего и конкретного характера, получили на время почву и дали бы всходы, но сама почва - национальное настроение - медленно и неуклонно менялась: антикатолический раж истощался с расточением крови невинных, и публика постепенно отвращалась от голосистых, богохульных, жестоковыйных, безжалостных политиков, оборачиваясь к жертвам их преследований.
Через несколько времени король счёл, что положение его укрепилось, и начал преследование Шефтсбери за государственную измену; и когда большое жюри Мидлсекса, избранное Сити - этой республикой в составе монархии - отвергло соответствующий билль, обратился к процедуре, принятой для избрания шерифов Лондона. После долгих и хлопотных политических манёвров, при помощи дружественно настроенного лорд-мэра, избранными стали шерифы-тори и корона получила верный состав судов. После таких назначений, Шефтсбери, поняв шаткость своего положения и, что возможно, услышав тревожные слухи о кровавых заговорах, бежал в Голландию, и, через очень недолгое время, умер в изгнании. Открытый с удачной своевременностью Райхаузский заговор поднял благоприятнейший для короля прилив народной любви к трону; сила и пылкость новых прокоролевских симпатий вполне уравновесили страхи и гнев Папистского заговора. Со всех концов страны текли верноподданнические адресы. Многие вельможи и деревенские джентльмены, долго чуравшиеся двора, со всей покорностью явились в Уайтхол. Один за другим в трибуналы и на эшафот пошли заговорщики Рай-Хауса и даже те, кто просто присутствовал при злоумышленных беседах. Повестки с требованием Предъявить полномочия пошли к персонам муниципальной власти, и многие компетенции стали оспорены. Под ударом народного недовольства, без парламента, где можно было бы сообща защищаться, сила вигов съёжилась и на время сошла на нет. Торийская реакция бушевала с той же яростью что и породившая её вигская агрессия, столь же обильно расточая невинную кровь. Шефтсбери успел уйти. Ховард стал свидетелем королевского обвинения. Рассел и Алджернон Сидни пошли на плаху, Эссекс в Тауэре избежал равной участи самоубийством. Смерти эти стали искуплением чужих грехов, позорных казней поры Папистского заговора.
Карл усидел и укрепился на троне, и, к 1683 году, пользовался той же безопасностью, что и четверть века назад, в дни своей коронации. Король прошёл испытание, неизведанное большинством английских суверенов: определённо, в таком положении не сумели бы выжить ни его брат, ни отец. При всём его цинизме, откровенной праздности и ветрености, он сумел охранить наследственный принцип монархии и удержать нетронутыми королевские привилегии. Он успешно отстоял право брата на трон; он защитил честь своей королевы; он укрепил став в этом сильнее деда - контроль над центральными, муниципальными правительственными органами и юридическими установлениями страны. Он никогда не терял поддержки епископата. Он оставался беден, он жил на содержании у Франции, он был бессилен на Континенте, но, уходя от издержек войны за границей, оставался хозяином в собственном доме.
Следующие три года, 1683-85 стали мирной передышкой, временем домашнего счастья в хлопотной, изнурительной, беспокойной жизни Черчиллей. Джон заново устроился в сердцевине, средоточии придворного мира - он жил так с детства и досконально знал такую жизнь. Он пользовался привычным фавором у короля и герцога. Мы читаем, что Черчилль входил в компанию двух-трёх постоянных партнёров Карла по игре в теннис[161] вместе с Годольфиным и Февершемом - и эти превосходные игроки поочерёдно обыгрывали друг друга. Он сопровождал королевский кружок в разных поездках и экскурсиях. Его произвели в полковники собственного Драгунского полка Его величества.[162] Семья получила дополнительный доход, но назначение сопровождалось ревнивым брюзжанием:
Попробуй резать мясо ложкой
Но есть ли в этом деле толк?
А много ль толку в том, что Черчилль
Назначен на драгунский полк?
Сказано, как сказано, но назначение Черчилля полковником неплохо оправдалось в дальнейшем. На большее какой-то значимый пост или дело - судьба не расщедрилась. Возможно, время это стало для него лёгким и беззаботным как никогда затем и прежде. Никаких ветвистых ходов, замысловатых комбинаций, сомнительных, опасных, страшных решений, ничего подобного! Мир и, пусть не изобилие, но достаток. Государство ушло от беды; нужды в манёврах и решительных действиях не было; и Черчилль пребывал в приятной незаметности, занимаясь домом и светскими делами. Карл, кажется, считал его придворным с хорошей репутацией и кавалером с издавна усвоенными полезными качествами офицер выдающихся способностей, человек рассудительный, опытный, обходительный прекрасный элемент меблировки королевского двора, совершенно, впрочем, неподходящий для более ответственной службы, по крайней мере, пока. Так, когда по нашим сведениям имя Черчилля появилось в списке вакансий на должность товарища министра Сандерленда, король пренебрежительно заметил, что не готов содержать двух бесполезных статс-секретарей[163]. После этого кто-то с охотой пустил по двору слушок, что Черчилль едва знает грамоте. Так что дела Джона шли спокойно, тихо, не в пример лучше, чем в беспокойные годы, когда он разъезжал от Гааги до Эдинбурга с поручениями деликатными и затруднительными.
Теперь Джон мог надолго оставаться с женой. Он даже сумел поселиться в деревне, получая теперь жалование с прибавками драгунского полковника и подполковника лейб-гвардии последняя должность стала очень прибыльной. Семья приобрела свой первый дом.
Фамилия Дженнингсов владела старым домом с несколькими акрами недалеко от Сент-Олбанса, напротив по другую сторону города их же поместья в Сандридже. Старый дом назывался Холивел-хаус; название пошло от ручья, где, в старые времена, монахини Сопвельского монастыря размачивали твёрдые монастырские сухари. Дорога шла поблизости, и рядом был мост через реку Вер. Предположительно около 1681 года, Джон выкупил у Френсис её долю в маленькой дженнингсовой усадьбе до этого и Холивел-хаусом, и поместьем в Сандридже совместно владели две сестры. Очевидно, Сара была привязана к родному городу и фамильным землям. В течение 1684 года Черчилли снесли старый, плохо расположенный дом, и построили скромное жильё в другом месте своего угодья среди хорошо спланированного сада с красивым рыбным прудом. О виде и размерах Холивел-хауса мы судим по современным рисункам. Место это осталось домом Мальборо на всю жизнь. Помпа и великолепие Бленхеймского дворца достались его наследникам. Он, и в том нет сомнений, остался при прохладном отношении к величественному поместью-монументу: дару нации за славные победы. Сердце его осталось в Холивел-хаусе. Там он, заядлый коллекционер, хранил картины и ценности; а на закате дней украсил фронтон Холивела изображениями своих боевых трофеев. И когда Джону удавалось избавиться от дворцовых и служебных дел, он непременно ехал в Холивел, к Саре и детям. Из писем видно, как его мысли в долгих кампаниях, обращались именно к этому уголку, где зрели плоды, где набирали силу деревья; к месту, где он провёл счастливейшие дни жизни. Холивел-хаус снесли в 1827. Самые подробные проспекты, выпущенные к продаже этого дома, ничего не говорят ни о строителе, ни о первых владельцах. Река Вер направлена по другому руслу; и место изменилось неузнаваемо.
Семья, между тем, росла. Бедная Хэрриот опочила, но другой дочери, Генриетте, родившейся 19 июля 1681 года, повезло пережить младенчество - смертельно опасную пору жизни в семнадцатом веке. На крещении Генриетты, мы замечаем старую знакомую - Арабеллу: та стала девочке крёстной матерью. Её связь с герцогом давно оборвалась. Выводок бастардов получил достойное содержание. Девочки разошлись по монастырям, либо, обратившись в католичество, отправились во Францию. Сын Арабеллы, благородный юноша, пользовался большим фавором, и успел предъявить те задатки, что сделают его в будущем герцогом Бервикским. Теперь Арабелла могла благополучно жить по всем правилам приличия. Она счастливо вышла замуж за полковника Годфри, дожила до преклонных лет, стала свидетельницей многих замечательных семейных дел. Третья дочь Джона, Анна отметим, какое ей дали имя родилась 27 февраля 1684 года. Ей также повезло выжить.
Со стороны двор короля Карла казался прежним, блестящим и весёлым, но внутренняя жизнь его, подточенная пережитыми невзгодами, зачахла. Казни великих, известных каждому вельмож, таких как Стаффорд с одной политической стороны и Рассел с другой; безобразная смерть в Тауэре Эссекса, совсем недавно доверенного министра, бросили тени на их обширную родню и знакомцев. Страх и горе угнездились под париками и пудрой, сквозили в маскарадах и церемониях.
Нам представляется, что в наступивших обстоятельствах Джон Черчилль делал всевозможное, чтобы совершенно устранить жену из этого нездоровья и жил с ней в деревне, наведываясь в Лондон лишь по обязанностям, то есть за средствами существования. Сара покорно подчинилась мужниной воле. Но вскоре началась история, расстроившая их скромное бытование.
До сих пор мы мало говорили о принцессе Анне.[164] Здесь и сейчас она становится в центр нашего повествования. Здесь и сейчас Сара становится её командиршей. Они свели первое знакомство в детские годы. Они встречались за детскими играми в Сент-Джеймсе, когда Саре было десять, а Анне только шесть. С 1673 года Сара стала жить во дворце, и они стали встречаться куда чаще прежнего. С первого знакомства, Анна искренне увлеклась прелестным, живым существом, перлом человеческой породы в детских её глазах. Принцесса потянулась к знающему, самоуверенному, человеку с сильным характером. Анну очаровывала заботливая верность Сары, её способность всегда и вполне развлечь или утешить принцессу. Разумеется, две юные жизни сразу потянулись друг к другу: в одной возгорелось страстное увлечение, в другой восхищение и чувство неподдельного дружества. Связь их крепла, они сходились всё теснее, что не осталось тайной в суетливом придворном мире. Любовь Анны к Саре несла в себе пламенный, истинно романтический элемент и нашла тёплый приём, но старшая из подруг поняла практическую для себя значимость этих отношений лишь по прошествии нескольких лет. Принцесса расположилась ко мне впоследствии написала Сара задолго до того, как я поступила к ней на службу. Наоборот, я удостоилась этой чести из-за одного лишь предшествующего впечатления, послужившего к моей выгоде; мы привыкли играть вместе, когда она была ребёнком, и даже в то время принцесса выказывала ко мне особое отношение. С годами мы становились ближе. Я часто бывала при дворе, и принцесса оказывала мне приятную честь, выделяя среди прочих; она находила удовольствие в разговорах с мной и доверяла мне. Когда она собирала какую-то компанию для развлечений, на меня падал первый выбор.[165]
Ход времени скоро нивелировал возрастную разницу, и чары Сары, ставшей к двадцати одному году матерью и замужней женщиной, действовали на семнадцатилетнюю принцессу сильнее прежнего. Больше всего пишет Сара она нуждалась в приятельстве, и, во имя дружбы, не погнушавшись найти во мне друга, с радостью приняла даже и равенство, что, по её мнению следовало из товарищества. Она с неловкостью принимала от меня обращения по форме и с церемониями, подобающими её рангу; равно не желая слышать от меня ни слова, ни намёка о дистанции между нами, о своём превосходстве. Однажды и это была её выдумка она предложила: если я по каким-то причинам буду в отлучке и не смогу с ней встречаться, нам надо вести переписку под вымышленными именами, тем самым совершенно устранив различие наших положений. Ей пришлись по вкусу имена Морли и Фримен, и она предложила мне первой выбрать предпочтительный псевдоним. Естественно, что я, человек искренней и открытой натуры остановилась на Фримене, принцесса взяла другой, и с этого времени миссис Морли и миссис Фримен заговорили на равных; их уравняла любовь и дружба.
Отношения Джона Черчилля с принцессой хотя иного характера, чем у Сары постепенно приняли характер личной симпатии. Собственный его интерес к судьбе Анны понятен; но, со временем, в Черчилле возобладало иное чувство: почтительная и сентиментальная привязанность, схожая с отношением лорда Мельбурна к молодой королеве Виктории. Он всё более считал себя защитником и наставником Анны. Он стал её щитом против всех политических ударов и интриг, встав между нею и яростными людьми обоих партий. Правилом его жизни стала защита Анны: её безопасности, благополучия и спокойствия против всех нападок в том числе и от досад со стороны Сары. Он сохранил верность Анне - принцессе, затем королеве - и стал рыцарем этой женщины на весь жизненный срок долгого их союза до самого конца - и оставался им при всех неприятных поворотах истории, не отступившись ни словом, ни делом даже в горький час увольнения со службы.
Едва войдя в возраст, Анна стала фактором национального значения. Брак её стал мероприятием рассудочной государственной политики. По приказу короля Карла и с согласия отца она, как и старшая сестра, воспитывалась в строгом протестантском духе. Наставником её был епископ Комптон, солдат до принятия сана - человек исключительно строгий в том, что касалось протестантской религии. Анна восприняла его уроки с чистым, безоговорочным, непреходящим доверием. Церковь Англии стала для неё единственным верным мостом из этого мира в следующий. Популярный брак Вильгельма Оранского с принцессой Марией в 1677 году помог Карлу удержать трудное равновесие дома и за границей. Теперь, и снова в нелёгкое время, пришла пора укрепить королевский дом вторым протестантским браком.
Принц Георг Ганноверский, впоследствии Георг I стал вызван в Англию, чтобы по начертанному плану свататься к принцессе, но покинул британские берега в некотором роде с позором, не удовлетворив надежд, вызванных его визитом.[166] Возможно, что его фиаско стало следствием международной политики: Людовик XIV никак не был заинтересован в таком браке. Анна, пусть всего и пятнадцати лет от роду, оскорбилась настолько, что и впоследствии питала неприязнь к принцу, ставшему со временем возможным преемником её трона. Король своей властью грубо оборвал нежный флирт между ней и графом Малгрейвом - конные прогулки в парке Виндзора, стихи (он был поэт), любовные письма. Лорда Малгрейва отлучили от двора, посадили на дырявый фрегат с приказом послужить в Танжере. Возможно даже, что в крушении сказочных иллюзий принцессы стала повинна и Сара. Наследницам королей приходится стойко сносить неприятности.
Затем Карл обратился к принцу Дании: такой выбор не вызвал отторжения у французского короля. Судя по всему, Людовик посчитал датчанина хорошим компромиссом. С одной стороны, Георг был непререкаемым протестантом лютеранского толка, с другой - представлял третьестепенную европейскую державу, так что дело сводилось к простейшей передаче девицы из рук в руки. Георг получил распоряжение брата, датского короля Христиана V; затем, в июле 1683 года, в Данию отправился полковник Черчилль с поручением доставить принца - чтобы тот, прибыв в Лондон, немедленно полюбил и тотчас женился. Георг Датский был мужчина приятной наружности, высокий, добродушный блондин. Принц заработал репутацию храбреца: однажды, в 1677 году, в битве голландцев с датчанами, он выручил короля-брата из беды своевременной кавалерийской атакой. Он не был ни умён, ни учён простой, незатейливый человек, без зависти и амбиций, отмеченный лишь неумеренным аппетитом и жаждой во всех застольных радостях. Знаменитый вердикт Карла: Я испытал его трезвым; я испытал его пьяным - и нет в нём никакого толку не отдаёт должного безыскусным добродетелям принца: непременному, отличному юмору; положительному и благонадёжному характеру. Очень может статься, что Черчилли приняли некоторое участие в организации этого брака. За десять лет до того, Чарльз Черчилль поступил в почётные пажи короля Христиана. Он сопровождал принца Георга в Англию при прежнем визите. Мы не знаем, какие секреты были между возможными споспешниками, но, так или иначе, Анна приняла уготованную судьбу в полном спокойствии. Её дядя, король, принял твёрдое решение; её отец дал согласие; Людовик XIV остался доволен; досадовал один лишь Вильгельм Оранский.
Венчание прошло 28 июля 1683 года, с королевской пышностью и при общественном одобрении. Принц Георг взимал годовой доход в 10 000 фунтов с каких-то маленьких датских островов. Парламент вотировал для Анны 20 000 в год, а король поселил молодожёнов в своих покоях, в резиденции под названием Кокпит - постройке, что примыкала к дворцу Уайтхол на месте сегодняшней Казённой Палаты.
Устроители политического брака едва ли считались с чувствами молодых людей, но этот союз остался прочен на двадцать четыре года, устояв в обычных житейских неприятностях и безмерных семейных скорбях. Год за годом, с регулярностью часового хода, Анна рожала мёртвых детей - либо выкидывала плод до срока. Один только желанный сын прожил дольше одиннадцати лет. К сорока двум годам она похоронила шестнадцать детей; потомство её оставалось средоточием многих надежд и замыслов, но Анна пережила всех, кого родила. Жизнь её терзали повторяющиеся боли, разочарования, горести траура; но она держалась со спокойным мужеством - помогли сильный, терпеливый характер, твёрдость в вере, непреходящее сознание общественных обязанностей. Анна, чуть ли ни совсем калека, нашла опору в вещах величайшей простоты в религии, муже, в заботах о благе страны, в любимой подруге и наставнице Саре. На этих опорах долгие годы держалась гармония её жизни; в итоге, имя её и царствование заслужили невянущий почёт. Любовь Анны к супругу не слабела с годами, она не уставала превозносить достоинства мужа. Романтическая сторона её натуры нашла удовлетворение в странной, необычно сильной привязанности к Саре. А за Сарой, всегда готовый к услуге преданности, стоял всенепременный гений Мальборо с его зачарованным мечом.
Анна, не теряя времени, убедила отца назначить Сару в число своих фрейлин. Платили на этой службе немного (200 фунтов), но Сара желала служить принцессе. Герцог - пишет Анна[167] - пришёл сразу за вашим уходом. Он дал согласие на то, чтобы вы были при мне, и, уверяю вас, это величайшее для меня удовольствие. Я должна благодарить вас за это предложение, но я не сильна в комплиментах. Придиры цепляются за слово предложение, но к тому времени отношения между двумя женщинами были уже такими, что слово это не имеет никакого значения. Это всего лишь вежливый оборот в обращении принцессы к подруге, чьим обществом Анна желала бы пользоваться, но никак не формулировка дипломатического протокола. В доныне не опубликованном рукописном наброске Сары Правдивая история о многом, копии которого хранятся в Бленхейме и Элтопе есть двусмысленный, беспристрастный и, разумеется, ретроспективный рассказ об их отношениях:
Обходительность и воспитание герцогини позволили ей заручиться расположением госпожи так, что последняя уже не нуждалась ни в ком другом. Но как только все признали за ней преимущество, и отступили, та стала пользоваться всем её остроумием и живостью нрава, стремилась располагать ею едва ли ни неотлучно; она же служила принцессе, и развлекала принцессу, упрочивая фавор, что лился на неё всечасно, и был теперь у всех на виду. Фавор быстро стал страстью; и страсть, завладевшую сердцем принцессы, стало невозможно скрыть. Они запирались вдвоём на долгие часы. Каждая минута разлуки была для госпожи утомительной тоскою. Она неустанно радовалась рядом с герцогиней, а разлука с ней, пусть и самая краткая, причиняла неустранимое неудобство: сама принцесса всё время говорила об этом. Зачастую она ревновала, как это присуще любовникам. Она постоянно говорила, что желает обладать ею всецело, и едва выносила её редкие побеги из этого заключения в иные компании.
Около 1712 года, епископ Бёрнет извлёк, и составил из бумаг Сары некоторую апологию её поведения в том, что касалось отношений с королевой Анной. Две копии этой работы, одна собственноручно написанная епископом, недавно обнаружились в Бленхейме. Герцогине не понравилась это произведение, она надписала его так: Дурно сделано. Имеет, впрочем, смысл представить читателю эту работу, как интересный, современный, доселе неопубликованный документ.[168]
* Я оказалась при дворе в очень юные лета, счастливо полюбилась многим, но в особенности королеве: она получала такое удовольствие от моего общества, что возжелала видеть меня при себе как можно чаще и ещё до замужества уговорила своего отца взять меня во фрейлины. Двор её был так чудно составлен, что отданное между всеми предпочтение не казалось мне делом необыкновенным; мне - воистину беспредельно - доверяли во всём, что касалось нежных чувств и пылких привязанностей, ничто не стояло на моём пути, ничто не казалось мне затруднительным. Я думала на свой счёт (и прочие думали так же), что останусь при наилучшей благосклонности так долго, как никто другой. И получив таковой аванс, я обдумала, как стану распоряжаться им, как отслужу его. Я установила для себя главное правило: служить ей с непререкаемой верностью и наилучшим рвением. Но верность служения, в моём понимании, не ограничивалась тем, что я не предам её, не открою [раскрою] её секретов, и буду служить верой и правдой, во всём, что станет доверено: под верным служением я понимала также и то, что никак не стану лицемерить и льстить, пусть и ценою её огорчения; я твёрдо верила в то, что принцы гибнут от лести: скажу больше, я считала, что не говорить всей правды, теша ложные надежды, - род той же лести. Я видела, как бедный король Джеймс погиб от тех, кто не смел честно сказать ему об опасности, пока оставалась возможность поправить дело - и всё из-за боязни расстроить его. Итак, я решила говорить всё, что, по моему мнению, должна знать та, коей я служу; и говорить ей обо всём с неизменными любовью и верностью...
Теперь Сара должна была оставаться при принцессе в Танбридж-Уэллсе или иных местах, а Джон - оставаться при путешествующем герцоге Йоркском, так что обстоятельства на некоторое время разделили семью, оживив переписку между супругами:[169]
Джон Саре.
1683-1684.
* Я написал тебе с почтою, но это письмо - как меня убеждают - успеет к тебе скорее. Видишь, я очень точен [обязателен] в переписке; ты, верю, тоже, так что надеюсь получать от тебя ежедневные письма. Пусть Господь отведёт от тебя все опасности и неудачи - я ведь люблю тебя сильнее всех любовий в остальном свете, сложенных воедино, так что соответствуй и отвечай мне нежной взаимностью, и я буду счастливее всякого в целом мире. Если я смогу выехать в воскресенье, я приеду; но если нет - буду у тебя в понедельник, в девять утра, так как герцог выезжает отсюда в шесть. Очень прошу [передать] наилучшие приветы нашей доченьке.
Безраздельно ваш всею душой и сердцем...
Пожалуйста, скажи Пойдвину [слуга Джона] что я прошу его сходить к мистеру Леггу за распиской за лошадей.
Пятница, ночь.
1684-85.
* Я понадеялся найти здесь мою душеньку, или, по меньшей мере, письмо чтобы понять, где ты. Но постельничего нет на месте, так что мне предстоит ожидание, по каковой причине ты, надеюсь, поспешишь сюда, прежде чем будут готовы твои платья, а если не сумеешь, я пойду отсюда за тобой, как только увижу физиономию постельничего, потому что я истосковался в сокровенном желании быть с тобою. Молю, дай знать о себе сегодня вечером, если не придёшь завтра.
Для сударыни Черчилль.
[1684-85]
* Ничего не получил от тебя; впрочем, не могу удержаться, и пишу сам, чтобы сообщить тебе: дети в полном порядке, завтра утром мы идём в город, а послезавтрашним утром герцог будет в Танбридже, и я надеюсь, что в его карете найдётся место и для меня. Герцог задержится всего на одну ночь, и если я приеду с ним, то должен буду с ним и уехать, так что, надеюсь, ты сумеешь благожелательно отнестись к стомильной поездке ради счастья одной ночи.
Понедельник,
Для сударыни Черчилль при принцессе в Танбридже.
[1685-86]
* Вчера получил два твоих письма, одно из них запоздало с отправкой по ошибке сэра Джона Уордена. В одном ты жалуешься, что я не пишу. Клянусь, что писал тебе ежедневно, за одним исключением вчерашнего дня, и то не по упущению, а оттого, что плёлся верхом при короле, и почта ушла как раз к моему возвращению домой. Теперь ты видишь, что сердишься без повода, и, поверь мне, ты поступишь очень несправедливо, если и впредь станешь сердиться на меня - на того, кто любит тебя беззаветно. Леди Анна постоянно спрашивает о тебе, так что, думаю, ты поступишь верно, если напишешь ей в благодарность за заботливый интерес о твоём здоровье. Боли, на которые ты жалуешься, опредёлённо вызваны простудой, поэтому, если то хоть сколько-нибудь любишь меня, ты будешь заботиться о себе - ведь твоя жизнь дорога мне так же, как собственная. Засим прощаюсь, и добавлю лишь, что ты и наши дети мне дороже всего на свете.
Среда,
Для сударыни Черчилль, Сент-Джеймс.
Последние годы Карла II прошли в тишине. Очнувшись от страстей Папистского заговора, отойдя после прилива торийской реакции, страна пришла в некоторое равновесие. Кажется, репрессии в сторону папистов, а затем казни причастных к Райхаузскому заговору восстановили баланс, создав возможность для нового начала. Мы видим, как массы сплачиваются вокруг центра; как партийный раздор, если и не утих, то утратил прежнее буйство; как победителями, в конечном счёте, остались умеренные. Любая партия, дерзнувшая далеко отклониться от своего обыкновенного курса, рисковала большими потерями тех многих сторонников, кто, пусть и стоя под партийными цветами, не намеревались ввязываться в партийные экстравагантности.
Мы знаем, что в конце правления Карл вёл дела с несколькими парламентариями сдержанных торийских воззрений. Они оппонировали папистам, Франции, выказывали умеренную враждебность к диссентёрам, одобряли государство Короля и Парламента и среди них первенствовал знаменитый Галифакс. Натура этого деятеля протестовала против любых крайностей; он, инстинктивно, шёл против течения. Язвительное прозвище Оппортуниста,[170] данное ему разочарованными фанатиками, вошло в историю как удостоверение прозорливости и честности этого человека. Он сравнивал собственную справедливость с областью умеренной температуры, между пространствами, где людей морозят и пространствами, где их поджаривают. Он был передовым государственным человеком своего времени; любовь к умеренности и практическая сметка требовали от него скорее мужества, а не оппортунизма. Большинство современных ему политических вождей дрались за победы он бился не хуже их, но бился за компромисс. Галифакс оказал памятные услуги короне и герцогу Йоркскому. Это его аргументированные речи, кусачий сарказм, сила личности и гордая независимость, склонили чашу весов против Билля об Отводе. Его мудрые советы помогали королю в критические моменты; сам он часто служил некоторым пунктом сбора для людей доброй воли. Итак, к описываемому времени он успел замечательно послужить стране. И, по прошествии штормового дня, остался доверенным министром вечерней поры Карла.
Иоафам умом остёр и мыслями богат
Природой щедро награждён, учением - стократ
Собраньем двинет, если то метнётся не туда
Жесток на время станет он - да, но не навсегда
Он меж сторон баланс найдёт и все к нему придут
Да! Одному лишь храбрецу такой под силу труд![171]
По своим характеру и политическим взглядам Черчилль очень схож именно с Галифаксом и тем отличается от прочих, современных ему государственных деятелей. Можно гадать, учился ли он военному делу у Тюренна, или нет но политике он учился у Галифакса. Мы наблюдаем, как Великий Соглашатель лавирует между фракциями; как он ходит к Монмуту, Вильгельму, возвращается к Джеймсу, неизменно тщась умерить, умиротворить домашних политиков и, в то же время, направить цвет Англии против папизма, аристократии и Франции; но наблюдая за Галифаксом, мы, одновременно, следим и за Джоном, кто мысленно крадётся в след министру, безмолвно блуждая в хитросплетениях его интриг. Мы уверены, что Галифакс - борющийся с вигами против клятвопреступного процесса за жизнь Стаффорда или борющийся с короной и тори против специально подобранного состава присяжных за жизни Рассела и Сидни - пользовался искренней симпатией Черчилля: того Черчилля, кто негодовал на преследование Аргайля; Черчилля, кто сохранил человечность, став полководцем, водителем армий нам рассказали об этом его друзья и его враги.
Вопреки разнице в возрасте, положении, авторитете, два этих человека всегда относились друг к другу с замечательной симпатией - уважение со стороны молодого, заботливое внимание со стороны старшего. Мы публиковали здесь слова, написанные Галифаксом брату, Генри Савилю в 1680 году - речь шла о возможной вакансии в посольстве в Париже - слова эти никак не предназначались для глаз Черчилля, он никогда не узнал о них. Мы знаем, как страстно желали эти двое склонить Джеймса к примирению с церковью Англии в 1681-м. Мы увидим, как они идут - разными темпами и в разных нарядах - по одним, трудным и опасным дорогам в 1687 и 1688. И совсем уже потом, в 1693-м, когда оба они интриговали с якобитским двором в изгнании, именно знаменитый Галифакс поручился за Мальборо, вопреки неудовольствию короля Вильгельма, именно за такие старания его удалили из Тайного совета.
Другой, умеренный по тем временам персонаж, заседавший в составе королевского совета сэр Эдвард Сеймур, Великий Общинник[172] своего времени. Ярый тори, вспыльчивый и злобный, персона независимая и ненадёжная, человек большого богатства и высокого положения, он вёл за собою сотню коммонеров из перепредставленных Западных графств. При случае, он сумел бы набрать в этих краях армию и выступить за национальную идею. Сеймур стал первым спикером Общин, кто не был прежде юристом. Гордясь родством с Сеймуром, человеком Реформации и люто ненавидя папизм, он стал несгибаемым оппонентом Джеймса; с другой стороны, принцип Божественного Права отвратил его от голосования за Билль об Отводе. Высокомерная его суровость не могла устоять в быстрых колебаниях - такими переменами отмечена карьера Сеймура; ему благоволили, им пренебрегали. Он с лёгкостью применялся к должности, незатруднительно сносил потерю офиса. Он не заботился сообразовывать слова, сказанные в оппозиции с делами на министерском посту; то же и при противоположной перемене. Он доблестно защищал позицию правительства против нападок, к коим прибегал сам, будучи заднескамеечником, и беспечно возвращался к прежним добродетелям, лишившись власти. В общем, он был самым искусным, хотя далеко не самым удачливым карьеристом своего времени. Мы встретимся с ним снова, в 1688 году и позднее.
Третий советник с наследственным отличием (отец его был доверенный лорд-канцлер) - Дениэл Финч, граф Ноттингемский, истово верующий человек, кто - необыкновенно для мирянина - стал очень влиятельной персоной среди епископов. Невзирая на принадлежность к тем, кого назвали бы сегодня высокоцерковниками, он - серьёзно встревоженный нетерпимостью французских католиков и репрессиями Людовика XIV - старался всеми средствами смирить свару епископата с диссентёрами и установить единение всех протестантских конфессий. Влияние его на революцию 1688 года было велико.
Но повседневная работа администрации собралась в основном в руках трёх человек, людей попроще и попрактичнее, с меньшим политическим весом. Лоуренс Хайд, ставший графом Рочестером, грустный Денби; уклончивый и непредсказуемый Сандерленд; и неизменный ни да, ни нет Годольфин, на всю жизнь друг Черчилля. Их прозвали детишками. Черчилль был близок со всеми тремя. Двое последних, в особенности Годольфин, стали ближайшим для тех времён прообразом постоянных государственных служащих наших дней. Хорошо обученные и прекрасно информированные, ведущие дела умело и ровно, люди эти не проводили ничьего интереса, никак не сообразовывали дел со страстью партийной борьбы, и полностью отдавались исполнению королевской воли, тщась придать ей мудрые и действенные способы выражения. Они говорили тихо, но делали куда больше громкоголосых партийных лидеров.[173]
А сам король, пережив грозные штормовые дни, старел в мягких сумерках своего царствования. Он одолел врагов; он - уплатив должную цену честью и славой восстановил мир дома, оставшись в стороне от заграничных войн. Он смог позволить себе прощение для Монмута. Он достаточно укрепился, чтобы вернуть Джеймса. Он благожелательно размышлял о новых выборах - желание Галифакса и мог вполне ожидать, что следующий парламент станет лоялен и полезен. Он по-прежнему удерживал баланс, и соразмерялся с гнетущими, неразрешимыми, обстоятельствами, своими веригами: яростным расколом народа; собственной нуждой в деньгах проклятый вопрос; зависимостью от Франции, этого ненавистного европейского государства; он видел опасность новой парламентской свары, и, первее всего тревожился о престолонаследовании. При множестве любовий, и отряде бастардов, у Карла не было ни одного законного наследника. Стране угрожали религия и характер Джеймса, и Карл, строгий и непоколебимый сторонник наследственного принципа, видел опасность зорче прочих. Король, душой своей, склонялся к старой вере Христова дома, но никогда не отходил от церкви Англии и всегда располагал её поддержкой. В своей войне с вигами он пользовался эффективным оружием английских законов и конституции. Он никогда не нарушал закона, ни разу не преступил черту формальной законности. Он прекрасно знал, и любил брата, пусть и в предвидении того, что пороки и доблести последнего столкнут его с нацией с народом, таким же упрямым и непреклонным, как сам Джеймс.
Но где иная дорога? Положим, Англия возликовала бы, дай он ей своего сына незаконнорожденного, бесстрашного красавца нашего любимого протестантского герцога! Но Карл никогда бы не пошёл на перемену закона о престолонаследовании и никогда бы не допустил отбора и выбора между конкурирующими претендентами; иными словами, он никогда бы не встал на путь трансформации наследственной монархии в выборную. Не против ли этого он только что боролся с народом и парламентом? Не с тем ли непререкаемым убеждением решал он судьбы Рассела, Сидни, Эссекса?
Был ещё Вильгельм человек дела нет, неустанный человек дела! пылкий, но расчётливый, умелый и легитимный правитель Голландии, первейший защитник протестантского мира. В жилах его текла голубая кровь английских королей, а супруга Мария стояла второй в очереди на корону. Он был иноземный суверен, опирался на конституционное правительство, верные армию и флот и никогда не скрывал живейшего интереса к английскому наследованию. Какая дальновидность и терпение! С каким умением он держал курс сквозь политические бури в Англии! Карл умел ценить в других мастерство правления. Вильгельм никак не добавлял к его затруднениям; он непременно выказывал к Карлу тёплое почтение. Голландец поддерживал самые тесные и непосредственные отношения со многими значимыми людьми обеих партий Англии. Он вёл обширную корреспонденцию через Северное море, занимаясь делами Англии, Шотландии и родной Голландии с равными постоянством и дотошностью. Но он никогда не был приверженцем Билля об Отводе, либо альтернативных начинаний, направленных на урезку прав короля-паписта. Виги тщетно просили его взять сторону хлопочущих о Билле, говоря без экивоков: Буде так, вы получите свой шанс. Но Вильгельм думал лучше их. Он ясно видел, что после исключения Джеймса трон займёт куда сильнейший соперник - Монмут. Свой шанс он видел лишь в устранении этого, второго претендента. Но он доподлинно понимал Джеймса, и почти не сомневался в его способности сломать себе шею. Оранский был уверен в том, что Джеймс непременно постарается привести английский народ к аристократическому правлению и католической вере; равным образом, он был уверен в том, что английский народ никогда не примет таких начертаний. Итак, по дальновидному расчёту, он вовсе не хотел, чтобы власть Джеймса стала обуздана законом. Джеймс со свободой рук был для Вильгельма лучшей надеждой Оранский, став преемником неудачливого короля заполучил бы, самое малое, никак не урезанные королевские прерогативы.
Карл понимал ситуацию во всех тонкостях, и видел все ходы на доске. Но что он мог предпринять? Он полагал, что в любом случае свою роль сыграет время. Королю было лишь сорок четыре года; казалось, он сохранил, в общем-то, крепкий организм. Здоровье его было не хуже братниного так полагали многие, очень близкие Карлу люди. Но бурные и постоянные сексуальные утехи проделали множество глубоких червоточин в этом крепком корпусе, и сам он не мог понять их значения. За следующие десять лет правления Карла, сцена, по его резонным надеждам, могла бы расчиститься силою времени. И он, с лёгким сердцем, повернулся к удовольствиям и развлечениям двора; он отнёс предложение Галифакса о созыве нового парламента к ряду досужих, несерьёзных дел и наслаждался сиюминутной устойчивостью государственного корабля, вставшего на время на ровный киль; он предоставил головоломным проблемам разрешиться так или сяк, самопроизвольно, в будущем. Так и вышло.
Тем временем герцог Йоркский получил свою долю в растущей популярности королевской власти. Он снова стал фактическим, не по названию, Лордом-Адмиралом. Король, упокоившись на лаврах, отдал ему многие задачи политического управления. На него смотрели как на лидера крайних тори. Не он ли, говорили люди никак не понимающие, какие силы движут делами, не он ли был всегда прав в своих советах, в своей непреклонности? Не он ли умело управлял шотландским парламентом? Не он ли заслужил уважение высочайшей пробы искренностью своих убеждений и храбростью на море и на суше? Стихотворцы писали:
Славу британских военных сил
Старый Джимми нам возвратил[174]
Тем не мене, ярость торийских реакционеров стала причинять определённые неудобства способнейшим советникам Карла II. Персоны подобные Роджеру ЛЭстренжу, давнему цензору и памфлетисту Карла, выступили крайними представителями политического мнения, пропагируя взгляды столь же одиозные, и ставшие такими же опасными для нации, какими были конспиративные толки соучастников Райхаузского заговора. Юрист Джефрис, теперь торийский Лорд Главный Судья, жестокий человек, яростный адепт названных крайних, большой талант в своём деле, управлял судами, став отличным инструментом для политических убийств. Теперь и те, кто громче всех приветствовали поворот течения, стали обескуражены его силой и восклицали, покачивая головами: Слишком хорошо, чтобы продлилось надолго. Но герцог Йоркский, ныне глава господствующей партии, имел иное мнение.
Черчилль подошёл к середине своего тридцатилетия. Положение его позволяло знать, и верно судить о людях и делах, он располагал превосходной информацией. О его мнениях сохранились лишь разрозненные отрывки. Мы, главным образом, можем узнать о политических взглядах Джона от его друзей. Он не привык бросать на ветер слова важного смысла, в сохранившихся письмах идёт речь о частных или семейных делах. Мы можем не сомневаться, что он глубоко и ясно представлял себе зловещие последствия перехода короны. По ходу службы у Джеймса, он вошёл в открытый антагонизм Монмуту и его партии. Товарищества маастрихтских дней не было более. По своему положению, формальному и неформальному, Черчилль, со всей очевидностью принадлежал торийской партии причём кругу высокоцерковников и выступал с ними против всякого вмешательства в наследственные права патрона. Он имел доподлинные сведения о здоровье короля, располагая для этого отменными возможностями, и видел, как за несколько лет до удара Карла точили странные и тревожные болезни. Политическая его будущность не вызывала более сомнений: если Джеймс переживёт Карла, то взойдёт на трон и тогда Черчилль, по всем резонам, кроме одного-единственного, получит высочайшее благоволение и выдвинется по службе. Но одно неблагоприятное обстоятельство могло перечеркнуть прочие соображения. Мудрый, осмотрительный солдат, долго прослуживший около центра и в самом центре власти, не сомневался в силе столкновения своего набожного, твердолобого, фанатичного, непоколебимого хозяина со всем неуступчивым протестантским народом. И с этого момента Черчилль должен был встать на неизбежно предопределённый путь. Ему предстояло покончить со всякой лояльностью, пренебречь любой признательностью, пойти на любой шаг во благо протестантской веры. Интимные, пылкие отношения жены с принцессой Анной, предложенное Саре место королевской фрейлины совершенно вязались со всеми его планами и желаниями. Джон и Сара приобрели значение для семьи принца и принцессы Датских; влияние их росло день ото дня, становясь главной, решающей силой и Черчилли неизменно использовали свой вес, чтобы усилить, укрепить и без того отчётливый протестантизм принцессы, чтобы сводить Анну с ведущими политиками и священнослужителями, кто мог дать ей вероучительное наставление.
Эта связь, как мы увидели, развилась естественным путём, движимая невидимыми импульсами дружбы и привычки. Она стали главным, ясно постижимым элементом фортуны Черчилля, а некоторое время спустя станет таким же фактором национальной фортуны. С этого времени, Джон и Сара постепенно отстраняются от кружка герцога, перебираясь, всё более явно, через религиозный разлом к молодой дочери Джеймса. Не подлежит сомнению, что в правление Иакова II Черчилль был скорее не доверенным слугой нового короля, но другом Анны, её советником, её информированным обозревателем иностранных дел[175]. Незначительное положение для спокойных времён, но оно определило всё, когда, очень скоро, пришёл должный день. Связь с третьей в линейке наследования королевской персоной упрочилась дружеством, общностью и устояла на двадцать лет, пережив многие передряги и испытания. В скором времени на этот кружок, сплоченный сердечными убеждениями, чувствами, привычкой, интересами, посыпались жестокие удары, но он претерпел самые яростные пробы на прочность и устоял со скальной твёрдостью.
Король сохранял видимость обычного своего здоровья до начала 1685 года. В ночь на 26 января, отужинав, он, по обыкновению, сидел с герцогиней Портсмутской в тесной компании друзей. Томас Брюс, граф Эйлсбери мы обязаны ему восхитительными, пусть не всегда правдивыми мемуарами[176], а Черчилль часто и дружески сообщался с графом по службе исполнял в тот вечер свои обязанности постельничего. Он нашёл короля в замечательнейшем, шутливом настроении. Но когда я провожал короля в опочивальню, где, по должности, обязан был светить ему у двери, то передал свечу пажу на лестнице, и огонь погас, хотя это была толстая восковая свеча, и я не ощутил ни малейшего сквозняка. Паж на лестнице оказался из суеверных: он посмотрел на меня и покачал головой. Король, раздеваясь, дружески болтал с джентльменами; разговор шёл о затеянном им ремонте Винчестерского замка и сада. Я прикажу Джону (так он, по-дружески, называл герцога Батского, обер-камергера, кто знал короля с детства) поставить вас на дежурство, пусть и не в очередь, когда я соберусь туда, чтобы вы сами посмотрели замок; я обожаю его, и эта неделя будет для меня счастливой дом мой, наконец-то, подвели под крышу. И Бог располагает комментирует Эйлсбери в следующую субботу он упокоился под другой крышей - крышкой гроба.
Той ночью Эйлсбери лежал в соседней комнате; он спал скверно, и слышал как, время от времени, король ворочается - странно, необычно для него. Утром Карл был бел, как кость и не мог, или не хотел говорить. Это был жестокий апоплексический удар; король мужественно вынес долгую пытку от рук своих растерянных врачей, и испустил дух. Долгожданный всеми кошмар пришёл преждевременно. Мирная интерлюдия закончилась; теперь землёй Англии правил Второй Иаков.
За два прошедших года Джеймс упрочил своё положение, заняв видное, второе по значению место в королевской администрации; теперь, убедившись в скорой и неизбежной кончине брата, он предпринял необходимые меры для беспрепятственного восхождения на трон. Он, разумеется, послал королевскую гвардию в разные важные пункты, и обеспечил за собою распоряжение некоторыми финансами, взяв подпись от умирающего короля; но прежде всех этих дел внял герцогине Портсмутской и обеспечил Карлу духовное благополучие. Священник, пришедший с чёрного хода, принял умирающего в римскую церковь, экстренно помазав Карла во имя Господне. Через полчаса после кончины монарха, Джеймс созвал Тайный совет, чтобы тот признал в нём нового суверена. Он действовал вразрез с мнением о своих мстительности и склонности к деспотизму. Он объявил, что страна и церковь найдут опору в правительстве, основанном на законе; что сам он видит в людях английской церкви лояльных подданных; что по его мнению законы Англии никак не стеснят монархического величия, так что он безоговорочно примет все права и привилегии короны, и не покусится на собственность граждан.
Утверждают, что в этот критический момент Джеймс пошёл и дальше, заявив: что касается моих личных религиозных убеждений, они не имеют ни для кого никакого значения, но эта фраза стала вычеркнута из официальных документов.[177]
Знатные и богатые люди страны приняли декларации нового короля с огромным облегчением и удовольствием; королевская прокламация зазвучала по Англии, встречая повсюду благодарные и верноподданнические отклики. Смерть Карла II пришлась на высший подъём торийской реакции. Его кончина всколыхнула глубины чувствительного английского характера: Карл, разумеется, зачастую обманывал народ, но как стало ясно теперь служил стране не так уж и плохо, а личное обаяние, достоинства и сами слабости короля располагали к нему многих. Неустранимые национальные разломы вера и политика скрылись под волной скорби и надежды; трения между новым властителем и людьми старых нравов стали забыты. Иаков улучил счастливый случай, и взошёл на трон своих предшественников и предков среди редкой для любого монарха благости.
Созыв нового парламента после трёхлетней просрочки стал теперь необходимостью. С переходом короны, государство лишилось более половины дохода. Неотвратимая нужда; тем более, не стоило упускать наиудачнейшего часа. Указ от 9 февраля объявил всеобщие выборы 1685 года. Во второй воскресный день нового царствования, около полудня, в виду собравшегося двора, король Иаков и королева пошли к мессе и причастились в Часовне королевы, оставив дверь открытой, так чтобы придворные могли видеть всё действо. Событие это возымело значительные последствия, избавив от розовых мечтаний протестантский двор и растревожив лондонское духовенство. Но новости, по тем временам медленные и недостоверные, не успели умалить значения королевской прокламации тем более что она была оглашена в самый выгодный момент - и нация проголосовала, повинуясь первому импульсу. Новый парламент вобрал весь сильнейший элемент нации, и оказался едва ли ни лояльнее реставрационного парламента 1660-го. Не только озлобленные драчуны, но даже и холодные наблюдатели поразились перемене общественного настроения. Четыре года назад, при трёх последовательных ежегодных созывах, парламенты принимались свирепо ратовать о Билле, что должен был отлучить Джеймса от трона; сегодня Иакова встретила пылкая преданность Общин. Иаков повторил перед палатами свою первоначальную декларацию в подновлённой редакции. Депутаты радостно откликнулись и средства, неохотно отмеренные прежнему королю, были вотированы для нового монарха пожизненно и без изъятий. Иакову разрешили повиноваться собственной совести, совести частного лица; он мог остаться при прежней религии но должен был соблюдать законы королевства, не отступаясь от данных на этот счёт обещаний, в обмен на верную службу своих подданных. Новый король начал царствовать с теми же умеренностью и осторожностью, как и в своё первое шотландское правление, и получил в ответ немедленное вознаграждение. Но события, побудившие и заставившие его уйти от мудрого и сдержанного курса, стояли уже на пороге.
Иаков начал правление с прежними министрами Карла II, некоторые изменения никак не подорвали целостности доставшегося ему правительства. Два его шурина, Хайды - Кларендон и Рочестер - стали, соответственно, Лордом-хранителем печати и Лордом-казначеем. Галифакс, кто искал Казначейства и получил бы его, когда бы не внезапная смерть Карла, собирался раскрыть растраты Рочестера и стал - в предотвращение - повышен, против своей воли, до председателя совета министров. Годольфин остался министром двора королевы; Сандерленд с Мидлтоном - государственными секретарями. Черчилль стоял ниже этих знаменитых персон. Возможно, его господин отчасти осознавал прошедший между ними разлом. И всё же при новом режиме Черчилль удержался в фаворитах. В списке девяти постельничих его имя стоит вторым, после самого Питерборо.[178] Король заново утвердил его в звании драгунского полковника, и срочно отправил в Версаль; у миссии этой были две цели: показная оповестить Людовика о восхождении нового короля и подлинная: Джону предстояло добиться от французов увеличенных субсидий в пользу английской короны. Черчилль годился для такой задачи как никто другой: прежде, в 1679 и 1681 годах, ему пришлось вести подобные переговоры в полной осведомлённости о тайных отношениях двух королей. Но у Людовика было время подумать о будущем, и он предвосхитил английский запрос. Джон не успел доехать до Парижа, когда Барильон услужил английскому монарху сверхсметным подарком в 500 000 ливров; Лондон решил начать с изъявлений благодарности за это умеренное вспомоществование, и лишь потом перейти к просьбам о полноценных субсидиях в желательном для Иакова и его двора размере - два или три миллиона в год. Посланца остановили свежими инструкциями, и он ограничился церемониями и благодарностями.[179] В этот приезд Черчилль проявил несвойственную ему искренность. Я слышал от графа Голуэя пишет Бёрнет что когда он [Черчилль] приехал [во Францию] с первыми любезностями от взошедшего на престол короля, то сказал графу, что откажется от службы и уйдёт от нового хозяина, если того склонят к перемене нашей религии.[180]
Чарльз Фокс комментирует:
Едва ли Барильон способен был угадать, что он [Людовик XIV] ведёт переговоры с человеком, кому через несколько лет суждено возглавить правительство - и тогда тот же самый лорд Черчилль поедет уже не в Париж, с просьбами к Людовику о помощи в порабощении Англии и с благодарностями за пенсионы своим монархам - он поедет поднимать на Людовика всю Европу во имя свободы![181]
Этот визит в Париж стал последним для Черчилля, и, как будет показано в следующем томе, возымел некоторые последствия, несмотря на явный провал переговоров. Джон вернулся в Англию в середине апреля, успев на пышную церемонию коронации. Его пожаловали пэром Англии, он стал бароном Черчиллем Сандриджским. Но грязная работа не замедлила ждать.
Новость о кончине короля донеслась до Гааги, и стала громом с ясного неба для любимого, капризного карлова бастарда Монмута. Монмут, с обычной для него живостью, скоротечно блистал тогда на празднествах богатого и ханжеского голландского двора. Он был вне политики, его принимали как пикантную приправу. Но самый разгар танцев и ледовых карнавалов прервался новостью: отец, собравшийся было подписать акт о прощении, умер, и вместо него Англией правит дядя соперник, победитель, причина изгнания; человек, кто шесть последних лет дрался против партии Монмута, кто ненавидит его кровной ненавистью, как протестанта и претендента.
Монмут, лишившись надежд, потерпев неудачу в общественной деятельности, нашёл убежище и утешение у нежной подруги, прекрасной леди Венворт. Он, по приказу Вильгельма, в несколько часов оставил Гаагу, и устроился вместе с милой в Брюсселе. Но иные буйные и отважные не в пример Монмуту души не унялись. Таким был Аргайл, загнанная куропатка в голландском изгнании: он предавался вдумчивым размышлениям о сравнительной святости синодического и епископального христианства, и жаждал оказаться в родных горах, во главе верного клана. Такими были заговорщик Фергюсон, лорд Грей граф Уарк, Уэйд, и ещё десяток знатных изгоев Англии и Шотландии, бежавших, когда открылось дело Рай-Хауса; все они вцепились в Монмута, и втянули герцога в фатальный замысел. Леди Венворт с одинаковой пылкостью обожала и самого Монмута и его королевскую перспективу. Она отдала на дело будущего монарха свои бриллианты и иное богатство. Все эти изгнанники считали Англию страной, задержавшейся в состоянии 1682 года. Они воображали снова найти там яростные, деятельные, решительные силы - великих вигских лордов, большинство в Общинах, лондонское Сити, карающие суды, не представленные в парламенте протестантские массы - тех, кто ещё вчера готов был привести к триумфу их дело и их самих. Они не верили реалиям, а с той поры общественное настроение претерпело быструю перемену, и стало совершенно иным. Монмут, вопреки всем своим трезвым расчётам, поддался их назойливости. Заговорщики решили, что Аргайл поднимет хайлендеров, а Монмут высадится в Англии. Через три недели в море вышли две скромные экспедиции всё, что удалось сделать со скудными средствами: два отряда по три корабля с военным снаряжением и бывалыми людьми; Аргайл пошёл на Керкуолл, Монмут направился в Канал.
Вильгельм, курьёзным образом, не смог пресечь военную экспедицию против дружественной страны. Нам дают самые авторитетные уверения, что он сделал всё возможное; что он советовал Монмуту идти на имперскую службу и воевать с турками; что он старался воспретить отправку десанта, сообщаясь с адмиралтейством Амстердама во всю меру своих полномочий. Он вёл себя безупречно. Безупречно и безрезультатно. Несчастному штатгальтеру пришлось остаться беспомощным зрителем предприятия того предприятия, что при любом исходе оборачивалось к его выгоде. Если Монмут добивался успеха, протестантская Англия становилась его военной союзницей против Франции и французского католицизма. Если Монмут - как то казалось неизбежным - терпел поражение, путь к английской короне становился куда короче и проще. Успешнейшие в истории государственные деятели умеют действовать или бездействовать так, чтобы блюсти свои интересы при неизменно корректном поведении.
Монмут, мотаемый ветрами, носился по волнам девятнадцать дней. Он убежал от многочисленных английских крейсеров в Дуврском проливе, и, 11 июня, бросил якорь в дортсетширском порту городе Лайм Реджис - читатель вспомнит, что в прошлом, в жестокостях осады, именно там страдала Элинор Дрейк; что зять её, сэр Уинстон Черчилль, заседал теперь в парламенте именно от этого города. Герцог с конфедератами скрашивали трудное плаванье утехами самообмана, толкуя о составе нового Кабинета; теперь они вышли на берег, с саблями наголо и направились на рыночную площадь. Их встретила экстатическая толпа: горожане, подобно мятежникам, жили прошлым - Англией времён папистского заговора, с почтением оглядываясь на великие дни Блейка и Кромвеля. Монмут выпустил написанную Фергюсоном прокламацию, обвинил короля в убийстве Карла II и во всяких прочих преступлениях; объявил, что сам он рождён в законном супружестве и обещал стать защитником закона, свободы и веры. Приверженцы толпами валили в армию герцога; сбитые с толку клерки записывали имена волонтёров в книги. За одни сутки к Монмуту примкнули пятнадцать сотен человек.
Тем временем, гонцы, посланные мэром Лайма он покинул непослушный город неслись в Лондон во всю прыть конских ног. Утром 13 июня посланцы ворвались к своему депутату сэру Уинстону Черчиллю с оглушительной новостью о восстании в его избирательном округе. Черчилль повёл гонцов во дворец, к своему сыну, Джону, а потом и к королю.
Должно быть, это был великий день для старого сэра Уинстона; день, когда вся жизнь его выстроилась в единую, гармоническую связность. Здесь был его монарх: годы назад, сэр Черчилль дрался за его династию и божественное право мечом и пером, претерпев множество бед; монарх этот оказал ему честь - пусть и не формальную - став отцом четырёх его внуков; теперь королю грозил новый мятеж. Те же упорные, вероломные люди - счастливо отлучённые от голосования - снова свирепствовали в тех же, прекрасно знакомых ему местах, в краях, где он прожил жизнь. Прежнее дело затеялось в прежнем месте Англии. Здесь был его сын, драгунский полковник, восходящая военная звезда современности, фаворит короля, потрясаемого восстанием; верный слуга престола с опытом долгой службы теперь он должен был повести гвардию, corps d'elite, чтобы свалить кичливого узурпатора. Это был звёздный день в судьбе сэра Уинстона. Должно быть, он остро ощутил, как сама непрерывность истории являет себя в нескольких повторившихся обстоятельствах для нескольких собравшихся в тот день людей.
Решения последовали безотложно. Все подручные силы направились, по приказу, в Солсбери. Полковник Черчилль вышел туда тем же вечером, с четырьмя взводами Синих[182] и двумя собственными, драгунскими всего три сотни лошадей а вслед должен был идти полковник Кирк с пятью ротами Полка Королевы.
Монмут выбрал для высадки наихудший момент. Парламент собрался на сессию, популярность короля ничуть не убыла со дня коронации. Палаты тотчас приняли Акт об Измене, направленный против Монмута. За его голову назначили 5 000 фунтов. Депутаты вотировали немедленное, крупное ассигнование; Лорды и Общины пообещали королю с решимостью умереть за него. Кроме того, в страну как раз вернулись войска из Танжера. В Нидерланды, Вильгельму, пошло требование о срочной отправке домой шести английский и шотландских полков, служивших за голландские деньги. Срочный возврат предусматривался условиями найма полков. Вильгельм тотчас согласился. Он не смог задержать экспедиции Монмута и герцог спокойно ушёл в море; теперь Оранский должен был сделать всё, чтобы уничтожить мятежников. И как бы это ни было больно лично ему - тем более, что этот неудобный, протестантский претендент оставался долгое время его гостем Вильгельм, в силу долга, был обязан помочь Иакову. Он отправил войска; более того он предложил взять на себя командование королевской армией. Но Лондон отверг это любезное предложение.
Черчилль быстро шёл на юг; 17 июня он вошёл в Бридпорт, покрыв 120 миль за 4 дня. Положение оказалось серьёзнее, чем мнилось при выезде из Лондона. Вельможи и джентри, люди, влияние которых так долго возвращало сэра Уинстона в парламент, остались верны королю в традиции Кавалеров. Народ, горожане и селяне, стояли за герцога и протестантизм диссентёрского толка. Командование над частично мобилизованной милицией Дорсета, Девона и Сомерсета взял герцог Альбемарль. Милицейские части, плохо обученные и недисциплинированные, стояли сердцем за протестантского герцога. И обойтись без подкрепления из регулярных войск было никак невозможно. Черчилль писал королю из Бридпорта:
Приношу вашему величеству извинения за плохие новости; но они [таковы], что без срочных мер мы можем оставить эту [часть] страны за мятежниками; по состоянию наших дел, два полка [милиции] бежали во второй раз... и случилось это так: герцог Альбемарль сообщил сэру Феллипсу и полковнику Латтрелу, что будет в тот день в Аксминстере с некоторыми силами и полагает встретить их там; итак, в названное место вышли два полка, один из Чарда, второй из Крюкерна; и когда они взошли на холм что отстоит от города на восьмую часть мили, к ним вышли некоторые деревенские люди, сказав, что в городе герцог Монмут; на что названный капитан Литтлтон закричал: Нас предали! и солдаты, сразу же переглянувшись, побросали оружие и бежали, оставив офицеров и знамёна; половина, если не больше, перешли к мятежникам. И я покорно прошу у вашего величества распоряжений о том, как мне действовать, поскольку я никак не могу полагаться на оставшиеся полки до тех пор, пока здесь не появятся регулярные части вашего величества, могущие вести и воодушевлять их; добавлю к этим несчастливым известиям, что я никогда в жизни не встречал столь павших духом солдат.[183]
18-го числа Черчилль достиг Аксминстера; 19-го Чарда, оказавшись в знакомых краях (Аш оставался в каких-то восьми милях). Здесь патрули вошли в контакт с неприятелем, появился гонец от Монмута: герцог напоминал о старой дружбе, и просил о помощи. Черчилль прогнал гонца, а письмо переправил королю.
Монмут во главе трёхтысячного отряда с четырьмя орудиями вошёл в Тонтон 18 июня. Город принял его королевскими почестями и пылкими изъявлениями. Соратники убедили герцога самоназваться королём; и он пошёл на это, усугубив вильгельмовы перед Иаковом обязанности долга. Число повстанцев выросло до семи тысяч, и Монмут мог бы удвоить армию, будь у него оружие. Горстка инсургентской кавалерии под началом лорда Грея графа Уарка ходила на необученных и даже неподкованных лошадях. Пехоте не хватало мушкетов, часть солдат вооружилась косами, насадив их на древки. Солдаты были выучены не лучше народного ополчения собственно, герцог обзавёлся милиционной, по большей части, армией. И, тем не менее, его солдаты отличались рвением, осмысленно понимали причину раздора, дрались с упорной храбростью однажды Кромвель выковал из такой сырой руды своих Железнобоких.
Нам неизвестно, что произошло в Уайтхоле вслед за тем, как сэр Уинстон вернулся в свой дом, а Джон, пожалованный бригадиром, двинулся по Большой Западной дороге. Он, определённо надеялся, и возможно ожидал, что получит командование над всеми занятыми в деле войсками, но здесь его обошли. Возможно, ему повредила прежняя дружба с Монмутом. У королевского совета могли возникнуть определённые опасения: протестантизм самого Черчилля; его личная и тесная связь с краем, охваченным протестантским мятежом. Так или иначе, у начальства возникли задние мысли. 19 июня письмо от Сандерленда уведомило Черчилля, что командующим назначен француз Февершем. Многозначительное решение: Февершем, будучи двенадцатью годами старше, никогда не командовал так, как Черчилль; ему было далеко от отличий, заработанных Джоном на полях Континента. Февершему случилось быть и при Маастрихте, и при Анцхейме, и в нескольких кампаниях, но лишь как наблюдателю. Черчилль ходил в том же звании, и был природный англичанин. Он обиделся на то, как его обошли, понимая, что причиной могло стать лишь недоверие. Причины его расхождения с господином, пусть и глубокие, были доселе скрытыми, и могли никогда не появиться на поверхности. Во всех глазах, Черчилль - даже и более Февершема - оставался верным, доверенным посредником, наперсником короля. Четыре последних года он непререкаемо и активно оппонировал Монмуту. Сам Иаков полагался на него в политических переговорах и интриге вокруг Билля об Отводе. Интересы Черчилля, будь то служба у Иакова, конфиденциальное наставничество при принцессе Анне, и даже дружба с Вильгельмом никак не вязались с Монмутом, нежелательной персоной, тщившейся пресечь законный переход короны. Джон держал ход кампании в руках, он был сердечно расположен к делу, он был способен выполнить задачу, как никто другой. Черчилль не сумел удержать гнева. Ясно предвижу писал он Кларендону 4 июля что вся честь достанется другим, а мне одни неприятности.[184] Возможно, именно тогда лопнула одна из оставшихся нитей, что связывали его с судьбою Иакова; но Джон, по обыкновению, взял себя в руки; подчинил чувства долгу и личным принципам; отдался, в самой учтивой манере, под начало Февершему и обратил весь свой гнев против неприятеля.[185]
Нам нет нужды вдаваться в подробности этой странной, маленькой кампании. Однажды войдя в контакт, Черчилль не отпускал врага. Его прекрасные кавалеристы с регулярной выучкой шли в широко развёрнутых порядках, охватывая и тревожа фланги и тыл монмутовой армии. Джон неотступно следовал за неприятелем, заходя справа или слева, смотря по обстоятельствам, стараясь убедить врага и особенно Монмута, человека с отлично известным ему темпераментом в том, что инсургенты имеют дело с регулярными коронными войсками. В то же время, он старательно уводил милиционные войска от опасности, располагая их по возможности подальше от противника и поближе к своим кадровым подразделениям, заботясь, тем самым не только о жизнях милиции, но и об её верности.
Между тем, встревоженная столица слала всё, что удавалось собрать. Кирк, незадолго прибывший из Танжера с ротами Полка Королевы, соединился с Черчиллем в Чарде 21 июня, пройдя 140 миль в восемь дней - отменное достижение для пехоты, даже при некоторой помощи от кавалеристов. Располагая таким подкреплением, Черчилль задумался о решительном сражении. 21 июня он написал герцогу Сомерсетскому: У меня столько сил, что я не жду ничего [дурного] от герцога Монмута, но наоборот, буду счастлив встретиться с ним и люди мои пребывают в замечательном настроении.[186] Но милиционные отряды с их боевым качеством и настроениями не годились для такой баталии; милиция перебегала к повстанцам охотнее, нежели дралась с ними на деле, она перемётывалась к врагу целыми ротами. В таких обстоятельствах, Черчилль не решился, как того желали в Уайтхоле, встать между противником и Бристолем. Он ждал прибытия королевской армии, не выпуская неприятеля из охвата, и иного выбора у него не было.
Монмут мог надеяться лишь на быстроту и отвагу: он должен был поднять обширный мятеж, либо погибнуть. При некоторых обстоятельствах, герцог сумел бы стать королём, но это были не военные, а политические обстоятельства. Он должен был брать городки и города, добывая для армии оружие и припасы, не дожидаясь, пока король соберёт сильное войско. Первая, очевидная для Монмута цель - Бристоль, второй город королевства, кишел его сторонниками. Взятие Бристоля давало ему огромные преимущества. От Лайма до Бристоля около семидесяти миль, и расстояние это стоило пройти как можно скорее, ценой любого риска. Он, разумеется, должен был организовать свои силы и потратить несколько драгоценных дней на обучение новобранцев. Более того, большую часть его повозок тянули волы. Он был принят в Бриджуотере с таким же восторгом, как в Тонтоне. На маршах его язвил Черчилль и Монмут нёс от того урон, не имея надёжной кавалерии. Но только 25 июня, то есть через две недели после высадки, Монмут появился перед убогими бастионами Бристоля. К этому времени силы мятежников разбухли до восьми тысяч пехоты и тысячи кавалерии. И он опоздал. 23 июня Февершем вошёл в город с двумя сотнями кавалеристов. Герцог Бофор устрашил население, закрепившись на холме, где некогда стоял городской замок. Королевская армия успела подойти к Бату, Черчилль оперировал на другом фланге Монмута. В сложившихся обстоятельствах а герцог знал далеко не обо всём он оставил прежний план и повернул от Бристоля. Поход за короной принимал несчастный оборот.
Черчилль дышал ему в спину, резал отставшие отряды, охотился за патрулями, искал случая для удара.
Мы не опустим здесь одного упоминания - тем более, что Уолсли упрекали за таковое изъятие: в пятницу, 26-го, отойдя на милю от города Пенсфорд, Черчилль остановил войска и повесил некоторого Джарвиса, валяльщика, пленного, захваченного двумя днями ранее; и Джарвис умер в закоренелом упрямстве.
Тем же вечером, Черчилль соединился с Февершемом в Бате; прежде него в город прибыл и брат, Чарльз Черчилль, с артиллерийским поездом из Портсмута. На следующий день Февершем с основными силами армии атаковал мятежников у Нортон Сент-Филипа. Дело прошло плохо. Пятьсот королевских пехотинцев с некоторой кавалерией под началом герцога Графтона втянулись, по собственной вине, на узкую дорогу со множеством мушкетёров Монмута в придорожных изгородях. Два незаконнорожденных отпрыска Карла II бастард против бастарда схватились в ближнем, своего рода братоубийственном бою. На сцене появились Февершем и Черчилль. Мятежники держались стойко, и королевские силы, потеряв убитыми восемьдесят человек, с неудовольствием ретировались в Бредфорд. Несмотря на частную победу, армия Монмута начала таять. Две тысячи человек дезертировали. Конвой с остро необходимым оружием и запасами был перехвачен у Фрома. Тонтон, пылко присягнувший на преданность, послал теперь депутацию, заклиная герцога не возвращаться в город. Горше всего стало известие о том, что восстание Аргайля погашено и что Рамболд лишился головы. Страх и уныние стали распространяться среди солдат Монмута и по тем местностям, что скомпрометировали себя, встав на его сторону. Но тяжелее всего было на сердце у самого герцога.
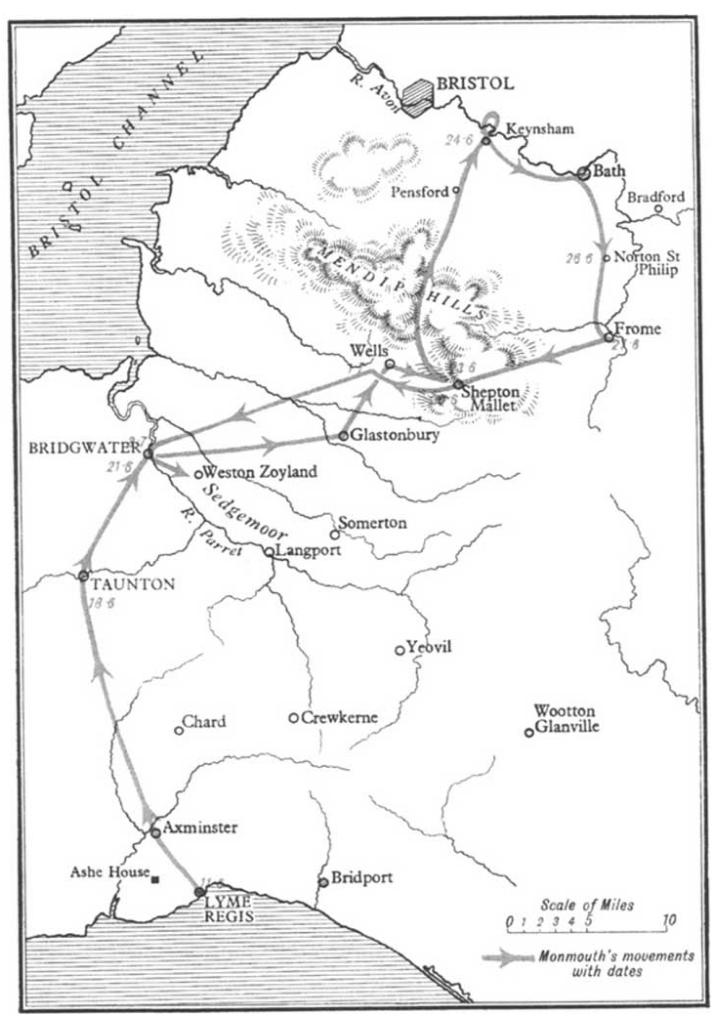
3 июля Монмут в глухой ночи вернулся в Бриджуотер, откуда вышел одиннадцать дней назад. Никто из знати не присоединился к нему. Его крестьянская армия, с офицерами-торговцами, устала, и сбилась с толку от бесконечных и бесцельных маршей и контрмаршей в грязи и под дождями. Но души их не остыли, и ветер успеха мог бы раздуть в них то пламя, что гаснет лишь со смертью. 5 июля Февершем и Черчилль со всей королевской армией, пришли из Сомертона и стали лагерем в Уэстонзойленде. С приходом нового командующего, ход кампании чувствительно замедлился. Страдая от погоды, и лишь теперь обеспеченный палатками, он согласился отдать инициативу повстанцам, а сам встал на хорошей позиции фронтом к плато Седжмура. Февершем не предпринял траншейных работ; впрочем, его извиняет то, что линии королевских войск пересекал заболоченный местами ручей, Бассекс Рин по местному названию; конница могла пройти названный ручей лишь по двум проходам, или бродам. Кавалерия встала в Уэстоне, на правом крыле; артиллерия на противоположном фланге, на расстоянии в четверть мили. Милиция отстала на много миль, задержавшись на разбитой дороге. Без этих вспомогательных сил, Февершем имел в распоряжении семьсот сабель, в том числе гвардейскую кавалерию, и шесть пехотных батальонов в общем, около трёх тысяч бойцов при шестнадцати орудиях.
Теперь между двумя маленькими армиями не насчитывалось и трёх миль, так что Монмут должен был безотлагательно определиться с дальнейшим планом. Стоит ли атаковать позицию королевских сил? Не лучше ли укрепиться в Бриджуотере? Или снова идти на север, по Бристольской дороге в Глостер и Чешир, где, предположительно, найдутся сторонники претендента? Бой с регулярными силами в поле означал гибель.
И сидение в Бриджуотере только отсрочивало такую гибель. Но дороги на север оставались открытыми. Монмут, определённо, мог обойти правое крыло Февершема, и перейти Эйвон у Киншема, оставив противника за рекой. Затем, герцог оказывался в дружественных местах, на новой сцене действия. Он выбрал последнее; 4 и 5 июля прошли за движениями и подготовкой сил с таким именно намерением. Чтобы обмануть неприятеля, Монмут занял жителей Бриджуотера показной работой на укреплениях города, и выпустил несколько приказов об отступлении на Тонтон. Черчилль, тем временем, анализировал каждую кроху добытой информации; 4 июля он написал Кларендону:
Враг, судя по ордерам, что получают констебли, нуждается, прежде всего, в лошадях и сёдлах и дело, по моему мнению, обстоит так: они задумали вырваться куда-то с конницей, оставив пехоту в укреплённом Бриджуотере.
В действительности, Монмунт собрался уйти со всей армией по крайне мере, выйти из города со всеми силами. Утром 5-го июля он вышел из Бриджуотера и пошёл по городскому мосту, чтобы затем собрать всех людей на Касл Филд, но тут местный работник[187] принёс ему известие о внутреннем состоянии королевской армии. Февершем разбросал силы безо всякого смысла, не потрудившись окопаться. Прошлой ночью в Сомертоне не позаботились о караулах; доносчик показал, что у противника царит расхлябанность, пьянство и буйство. С колокольни бриджуотерской церкви был виден весь вражий стан. Монмут, вернувшись в город, поднялся на колокольню, открыл для себя зрелище неряшливо разбросанного лагеря, и принял решение самое мудрое и отважное в его жизни ночная атака!
Герцог собрал совет, и нашёл одобрение. Батрак Годфри, посланный убедиться в том, что противник обходится без траншей, подтвердил прежнее донесение, и вызвался провести колонну инсургентов по хорошо известной ему местности. День прошёл в приготовлениях и молитвах. Фергюсон и другие священники разглагольствовали перед фанатичными сборищами простых людей. Мятежники выработали план, чрезмерно сложный для действий в ночной темноте. Армии предстоял шестимильный марш в обход правого крыла Февершема. Затем кавалерия Грея уходила от основных сил и, миновав деревню Чедзой, форсировала Бассекс Рин по одному из бродов; после этого, конница атаковала королевский лагерь с востока, захватывая врасплох драгун и синих в Уэстонзойленде; далее Грею предписывалось зажечь деревню и идти обводящим движением по тылу вражеского расположения, сметая артиллерию и обоз. Тем временем, пехота рвала неприятельский фронт. Отчаянное предприятие; но у Монмута было около 3 500 храбрых и решительных солдат. Ночью все кошки серы; герцог полагался на смятение рукопашной схватки, надеялся на неожиданность, панику среди врага. Лучшего шанса ему не оставалось. Но это был хороший шанс - с учётом множества самых разнообразных за и против, никто бы не поручился с определённостью за конечный исход дела. Итак, в начале двенадцатого ночи, повстанцы двинулись дорогой на Киншем, проковыляли по ней около двух миль, и свернули направо, в сырой туман торфяной пустоши.[188]
Многие историки выдвигают серьёзные обвинения против Февершема. Бёрнет заявляет, что он не выслал патрулей не занимался разведкой ушёл спать, не позаботившись о приказах. В самом деле, он спал - на кровати в окружении мушкетёров с зажжёнными фитилями. У нас есть современные свидетельства об его обжорстве и летаргической привычности поведения. Пусть Черчилль и сохранял обыкновенную для него, непогрешимую вежливость, иные королевские офицеры говорили о командующем с презрением, высмеивали его дурной английский; по их мнению, он думал лишь о сне и еде. За семь лет до Седжмура, он пережил страшную для тех времён операцию, трепанацию черепа после ужасных ранений, полученных в борьбе с пожаром на Темпл-Лэйн: там Февершем взрывал дома, чтобы пресечь распространение огня. Одна из записей рисует его так: в самом средоточии тревоги, он тщательно завязывает галстук перед зеркалом в деревенском доме, где нашёл убежище. На деле, он упустил брод за своим правым крылом, не прикрыв его охранением; но всё же не опустился до полного пренебрежения азами военного дела. Он выбрал для лагеря хорошую позицию; он выслал к расположению неприятеля по крайней мере пять сильных кавалерийских и один пехотный дозор; он отрядил во внутренний караул сто солдат под ружьём; наконец, он послал Оглторпа со взводом синих караулить дороги от Бриджуотера на север, куда, по его мнению и мнению Черчилля предполагал ускользнуть Монмут. Он лично обошёл аванпосты, и некоторое время прождал там донесения Оглторпа. Он улёгся без малого в час ночи, после того, как получил от Оглторпа сведения о том, что всё спокойно. Оглторп снискал в своё время похвалы и награды, но и его не обошли критикой, особенно лорд Уолсли, самый компетентный из всех. Он прошёл со своими войсками некоторое расстояние по Бриджуотерской дороге, долгое время прождал на холме у перекрёстка дорог на Бристоль и Бат, и, не обнаружив ничего в кромешной ночи, ворвался на окраины города, и узнал, что мятежная армия ушла. Куда? Бог весть.
Итак, Монмут пробирался по торфянику, впереди шёл Грей, в авангарде Грея - Годфри. Мятежники успешно перешли Чёрный Канал, один из больших дренажных каналов, что называют в той местности ринами. Грей, со своей тощей кавалерией и часть пеших инсургентов, успели перейти следующий канал Ленгмор Рин; часы чедзойской церкви пробили час пополуночи, как вдруг конный пост синих подал тревогу выстрелом из пистолета. Поднялось яростное возбуждение. Инсургенты подобрались очень близко к спящему лагерю врагов. Вопреки расхожему мнению, повстанцы знали о том, что впереди Бассекс Рин и Грей с конниками, опрометчиво бросив Годфри, кинулся искать брод. Кавалеристы выскочили к непроходимому участку канала; Грей, вместо того, чтобы повернуть налево, и, следуя плану, обойти фланг неприятеля, и выйти ему в тыл, принял вправо с большей частью своего отряда, и поскакал вдоль берега, через голову собственной пехоты задние части Монмута отстали, не успев перебраться в темноте через Ленгмор Рин. Тем временем, в королевском лагере забили барабаны, горнисты затрубили тревогу, и переполошенный стан вскочил к оружию, в смятении и ярости. Обескураженный Грей разглядел в тумане небольшое скопление мерцающих огоньков и пошёл на них. Некоторые говорят, что он принял эти проблески за огни Уэстона. Но это было свечение иного рода. Полк Думбартона не успел перевооружиться ружьями с кремнёвым замком, и светляки эти были медленно горящими фитилями в руках у солдат при оружии. Кто вы? - выкрикнул голос от линии огоньков. Король - Какой король? - Король Монмут, и с нами Бог! - Тогда вот вам - ударил первый залп; потом, с малой задержкой второй, третий; солдаты стреляли через канал повзводно, исполняя заученные приёмы. Виной тому Грей или необученные лошади или то и другое но кавалеристы потеряли строй, и кинулись прочь в полном беспорядке, обтекая фланги собственной пехоты Монмут, на бегу, успел выстроить солдат в маршевую колонну и сам возглавил атаку. Отставшая от Грея часть повстанческой кавалерии сумела найти брод, но Комптон с горсткой синих не пустили конницу на свой берег, остановив инсургентов в самый последний момент.
Накануне у Черчилля - как и у Февершема - был трудный день, но он оказался на ногах в опасности, при оружии, при соображении. Начальник отсутствовал, и он немедленно взял командование на себя. Повстанцы остановились, развернули строй в восьмидесяти ярдах, и палили через ручей; королевские силы спешно выстраивали линию. Неприятель опоздал с опасным прорывом в лагерь, но охватил правый фланг королевских войск, выставил три орудия при опытных голландских канонирах и бил теперь со ста ярдов, быстро выкашивая людей в плотных порядках 1-го гвардейского полка и полка Думбартона. Черчилль занялся перестроением пехоты. Он приказал двум батальонам левого крыла перейти за фронтом на правый фланг, чтобы вытянуть линию направо, и послал за орудиями. Артиллерия мешкала, но помог епископ Винчестера, Старый Шут, сопровождавший Февершема для духовных напутствий: он распряг свою карету, и его лошади доставили шесть пушек к критической позиции. И здесь появился Февершем. Он одобрил распоряжения Черчилля. Он отдал замечательно верный приказ пехоте, воспретив переходить ручей до рассвета, и поскакал на левый фланг своей линии.
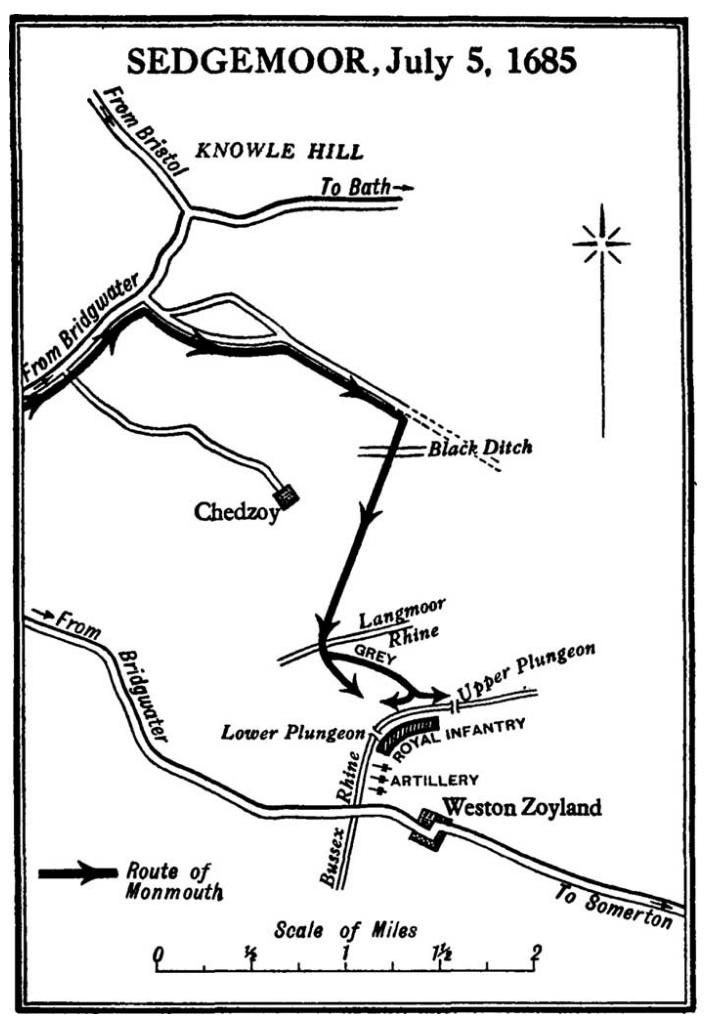
Черчилль нёс чувствительные потери от артиллерии Монмута, бившей по пехоте с короткой дистанции. Возможно, что именно по его приказу капитан синих Литтлтон, рассредоточившись, перешёл канал вброд; затем выстроился на другом берегу, и с первым светом утренних сумерек ударил, и захватил пушки неприятеля. Обычно говорят, что Черчилль сам возглавил атаку маленького кавалерийского отряда, но это не так. Затем ручей перешли вброд пехотинцы ближайшего батальона и удержали захваченное кавалеристами.
Стороны обменивались залпами три часа, не решаясь на рукопашную. Затем, по словам Уолсли, у повстанцев стали заканчиваться боеприпасы. Известно, что их обоз с порохом и ядрами, остановился в двух милях позади, так как возничие дезертировали, напуганные видом бегущих конников Грея. На рассвете дня подтянулась долгожданная королевская артиллерия. Для Монмута загорелся мрачный, роковой день. Он, офицер искушённый в континентальных войнах, знал, что не имеет больше шансов и что маленькая его армия не имеет средств к спасению. Удивительно, что он не решился умереть тут же, в поле, с преданными простолюдинами, обречёнными им на смерть. Но если бы Монмут был способен на такое, он стал бы способен и на другие дела, и мы бы писали совсем иную историю. Когда над болотами совсем рассвело, он с пятьюдесятью кавалеристами и Греем, кто вернулся из бегства, и присоединился к герцогу, ускакал с поля, надеясь добраться до порта, и захватить судно. На косогоре за торфяниками эти дезертиры и эмигранты придержали коней. Внизу, вдоль берега фатального ручья, стояли упрямые остатки нонконформистской пехоты. Королевская кавалерия взяла их в кольцо, гоняясь за отбившимися повстанцами. Пехота Февершема, перейдя канал теперь она сделала это без труда яростно атаковала мятежников, но храбрые крестьяне, рудокопы, ткачи, этот невидный набожный люд служили своему лорду последнюю службу на берегу безвестной речушки. Они сошлись грудь в грудь с неприятелем, отбиваясь прикладами мушкетов, косами на палках, и непреклонно держали строй, пока подоспевшая артиллерия не начала бить в человеческую массу ядрами. Но всем шестнадцати королевским орудиям пришлось изрядно пострелять, прежде чем растерзанный строй распался, а уцелевшие побежали, взывая к безжалостным преследователям. Монмут лишь бегло оглянулся на кровопролитную трагедию. Он только уверился, что его сторонники держат оборону, пока сам он покидает поле.
Не станем далеко отходить от главной нашей темы. Скажем лишь, что обаятельный красавец-принц был схвачен голодный и мокрый в дренажном канале; что, оказавшись в Лондоне, он тщетно унижался, вымаливая жизнь, валяясь в ногах неумолимого дяди; что он отрёкся от права, за которое вышел на бой; что он готов перейти в католичество, для спасения не души, но тела; и, наконец, прекратив непристойные рыдания, умер в совершенном самообладании под топором неопытного и смущённого палача. Леди Венворт последовала за ним через несколько месяцев сердце её не выдержало. И в смерти бывает доброта.
В полдень 6 июля Черчилль с тысячей солдат вошёл в Бриджуотер. Несчастное место с перепуганным населением, согрешившими чиновниками; город, наводнённый увечными солдатами, толпами беглых и пленных! Февершем медленно двигался следом. Он смотрел на обстоятельства по-континентальному. По нему, английские крестьяне и простой народ затеяли провалившуюся жакерию. Он декорировал деревья гроздьями повешенных. При нём был Кирк, а тот смотрел на обстоятельства по-танжерски; солдаты его только вернулись из крусейда к маврам, носили эмблему Божьего Агнца и Кирк, со своими ягнятами, не давали пощады никому разве что за деньги. Но впереди было худшее.
Радостно видеть, что первый в битве человек не принял никакого участия в жестокостях вслед за одержанной победой. Черчилль, проявив удивительную ловкость, смог выпутаться из щекотливого положения. Мы полагаем, что он поспешил к Саре. В нашем распоряжении есть его письмо, написанное 30 июня ей, в Холивел.
Я получил твой портрет, пересланный тобою через милорда Колчестера. Должен сказать, он пришёлся очень кстати, и будет великим утешением в моём теперешнем одиночестве ведь весь мир, взятый воедино, не сможет подняться до моей к тебе силы любви, и, клянусь, я готов скорее потерять жизнь, нежели тебя. Итак, ради моего блага, прошу тебя заботиться о себе. Здесь проливные дожди, сильно изнурившие солдат, что вовсе нехорошо, так как мы не можем давить на герцога Монмута так, как могли бы; и всё это удерживает меня вдали от тебя: ведь счастие быть с тобой, чего я желаю больше всего на свете, недоступно мне, пока мы не обратим его в бегство.
Разгромив неприятеля, он покинул казнимый Запад и уехал домой. Королевские награды за победу достались по большей части Февершему: он получил Подвязку и очень выгодное командование Первую роту лейб-гвардии, в то время как Черчиллю пришлось довольствоваться Третьей ротой того же полка. Общество, тем не менее, осталось при мнении, что именно Черчилль спас положение и выиграл битву. Вся армия знала фактическую сторону дела. Офицеры королевских войск, гвардия, все военные из высших кругов света обращались при дворе. Они не скрывали своих мыслей. Военные достижения Февершема стали мишенью для острот, и граф Бакингем написал фарс о генерале, кто выиграл битву, лёжа на кровати.[189] Несомненно, к Февершему относились с предубеждением, как к французу; очень возможно так говорят многие авторы что современники оказались несправедливы к нему, и что он достоин лучшего отношения. Вялый иностранец дремал на кушетке, пока доблестный англичанин спасал положение так думали тогда и в этом больше правды, нежели в популярных версиях многих исторических событий.
В попытках реконструировать персону Джона Черчилля по дошедшим историческим фрагментам, мы обязаны предположить, что обхождение Иакова с нашим героем во время и после Седжмура запечатлелось на личных отношениях этих двоих, придав этим отношениям определённую отныне форму. Теперь прозорливый Джон доподлинно знал положенный ему предел королевского фавора. Равным образом, он понял королевское умонастроение, измерив Иакова так же, как мерил доблести и слабости любого своего врага когда человек становился ему врагом. Это так; Черчилль, разумеется, думал о собственной судьбе и карьере, однако теперь между ним и королём встало иное, сокровенное. За Седжмурской бойней последовали Кровавые суды. Лорд Главный судья Джеффрис быстро уловил настроение хозяина и, теша попутно собственные садистические страсти, обрушил отмщение на Бриджуотер, Тонтон и всю мятежную местность. Около четырёхсот казней тем ознаменовалось его усердие. Тысяча двести повстанцев были проданы в рабство на плантации Барбадоса. На острове Барбадос и по сей день живёт колония белых людей они не смешались с неграми в межрасовых браках, хотя и работают наравне с чернокожими. Они называют себя красноногими; они потеряли память о стране происхождения, о собственном роде-племени. Некогда они лишились имён, и только единицы сохранили знание о том, что двести лет назад пращуры их пошли за герцогом Монмутом.
На время Кровавых судов, грязная торговля рабами и помилованиями стала популярным в Уайтхоле занятием. Кто не слышал восклицает Ранке о девушках из Тонтона? Эти школьницы, под руководством учителей, вручили Монмуту вышитое знамя. И обеспеченные семьи школьниц стали вынуждены выкупать их жизни. Придворный или фрейлина могли с большой выгодой заполучить по распределению одну такую девушку или даже двоих.[190] Открывшаяся работорговля обернулась открытым скандалом и поводом для юридического спора. Двор решил, что это его добыча. Лорд Главный судья обиделся на таковое нарушение своей прерогативы - тем более что продавал помилования и скащивал наказания чуть ли ни на аукционе; он, в скором времени, на нескольких кровавых примерах, показал, что не потерпит никаких неформальных действий в этом вопросе и не позволит Уайтхолу вторгаться в священную область закона. Он утвердил некоторый принцип. В подобных делах, полагал он, закон должен быть независим от исполнительной власти. Весь этот эпизод стал оргией явившегося вдруг каннибализма на коей, в священной экзальтации, председательствовал король Иаков.
Здесь перед нами промелькивает Джон Черчилль и чувства его к королю. Мы говорим о деле двух молодых баптистов, Хьюлингсов.
Их сестра, Ханна Хьюлингс, принесла петицию к королю, ратуя за братьев, и была принята лордом Черчиллем, впоследствии герцогом Мальборо. Они ожидали в приёмной, стоя около камина, и лорд Черчилль уверял её в самом сердечном желании успеха с означенной петицией, но, мадам сказал он я не рискну тешить вас никакими надеждами, потому что сердце короля способно теперь к чувствам не лучше этого мрамора.[191]
Он не ошибся в мрачном мнении. Оба Хьюлингса были повешены.
Быстрый разгром Монмута и Аргайля, упоение мщением, верный парламент, боевая армия всё это, сложившись воедино, дало королю чувство уверенности в себе и в полном превосходстве собственной власти. С этого времени он пошёл по пути сокровенного намерения. Он пожелал сделать Англию католической страной, а себя абсолютным монархом. Он знал, что путь этот долог и многотруден. Подобный замысел мог исполниться лишь с постепенством и терпением; но Иаков более не нуждался в осторожностях и уловках, вынужденно предпринятых при взошествии на престол. Он вышел победителем из испытаний двойного мятежа; он, на кровавых примерах, показал свои силу и гнев. Кто осмелится дерзнуть против воли такого суверена? Он, не в пример слабому, праздному брату, отбросил присущие тому виляния и хитрости. Итак, у него будут министры посредники, но не советники; парламент покорится, либо он обойдётся без парламента; судьи поставят волю короля выше закона; ему нужна сильная, дисциплинированная, преданная одному королю армия; но, прежде всего и впредь он не станет терпеть того, что истинная, искренняя его вера лежит под пятой уголовных запретов. Отныне Иаков обременился святым долгом: освободить католических подданных из опалы, поднять их до почётных и важных постов в государстве.
Как только кампания Джеффриса - так окрестил его дела Иаков пришла к завершению, король предложил советникам аннулировать Тест-Акт и Хабеас корпус, два проклятых рудимента вигского вмешательства в дела прошлого царствования. Предпринятые меры и парламентские ассигнования на подавление мятежа позволили ему существенно увеличить армию. Вооружённые силы пополнились восемью новыми кавалерийскими и двенадцатью пехотными полками. Весь танжерский гарнизон стоял теперь дома. В дни опасности многие католики получили военные звания и должности. Король решил оставить их в армии, и, более того, вознамерился провести дополнительный набор офицеров-католиков для подъёма новых полков. Он желал, чтобы пэры-католики возвратились к работе в Лордах. Галифакс, лорд-президент Совета, воспротивился таковому отступлению от закона, и оппонировал королю, цитируя нарушаемые Иаковым правовые акты. Лорд-хранитель печати Норт указывал суверену на опасности принятого курса. Пусть герцога Монмута и нет более, за морем живёт принц Оранский. Галифакса уволили не только с поста президента Совета, но отстранили от всех должностей и выгнали из Тайного совета вовсе; а когда, в скором времени, умер Норт, прежнюю его должность, место лорда-канцлера, занял Главный судья Джеффрис - едва покончивший вершить Кровавые суды яростный защитник королевской прерогативы. Позднее, в том же году, Сандерленд добавил вакантный офис лорда-президента к прежнему своему положению государственного секретаря, став, таким образом, главным министром Иакова.
Парламент собрался на вторую сессию 9 ноября, и король огласил Палатам первоочередные задачи. Уроки недавних восстаний, резонно заявил он, показали беспомощность милиции. Мир и порядок в королевстве невозможны без сильной регулярной армии, и чтобы поддерживать боеготовность армии, нужны офицеры-католики. В тревожные времена он принимал на службу офицеров католического исповедания, и не собирается увольнять их теперь, когда они сослужили верную службу. Два королевских требования потрясли парламент до самого основания. Палатами водил укоренившийся Кавалерский дух. Постоянная армия была их тягчайшим кошмаром; англиканская церковь драгоценнейшим сокровищем. Итак, король уязвил парламент сразу в двух основополагающих принципах: мирском и религиозном. Всех охватили страх и растерянность; депутаты заволновались, и в душах их затеплился гнев.
Но ни одна из Палат не выказала метаний и поспешности. Торийские вельможи и джентри остались при старой приверженности трону, возродившейся в недавних опасностях. Они оспорили бесполезность милиции, но всё же предложили 700 000 фунтов на развитие армии. Сэр Уинстон в одном из последних своих публичных выступлений горячо высказался в пользу такого ассигнования. Более того, общины готовы были смириться с отменой Тест-Акта в применении к офицерам-католикам и снять с них штрафы. Со всей глубокой преданностью, они просили лишь о том, чтобы король, в дальнейшем, не прибегал к постоянной отмене парламентских актов в силу своей прерогативы и чтобы король сказал несколько любезных слов о защите их религии. Монарх дал грозную отповедь их обращению и Общины приступили к детальному обсуждению королевской речи. Но даже теперь, когда Джон Кок, казначей двора вдовствующей королевы, человек, известный своей верноподданностью, воскликнул: Все мы англичане и не побоимся исполнять свой долг после нескольких гневных слов, его спровадили в Тауэр за непристойные речи.
Случилось так, что к священному аргументу прибегла верхняя палата. Лорды долго добивались возобновления прений по королевской речи; затем выступили Девоншир, несгибаемый виг; Галифакс, прославленный экс-министр; Бриджуотер и Ноттингем, действующие члены Тайного совета; и, главным образом, Генри Комптон, лондонский епископ - все они заявили о правах нации. Назначили день для повторного обсуждения адреса королю, в парламент пригласили судей, кто должны были вынести решение о законности королевских действий. Иаков пока ещё не успел укомплектовать суды своими приверженцами. Он ясно понимал, какое решение с неизбежностью вынесут судьи, и что палата лордов станет монолитным препятствием на пути сильно рассредоточенных сил, с коими он надеялся обеспечить католикам лучшую участь и продвижение во власть. Поэтому 20 ноября король внезапно появился в палате лордов, пригласил к барьеру коммонеров, и объявил приостановку заседаний парламента. В его царствование парламент уже не собирался.
После Седжмура, Черчилль остался безучастным наблюдателем действий короля. Положение при королевском дворе препятствовало ему выступать в дебатах верхней палаты, тем более что он был в Лордах новичком. Когда граф Альбемарль отказался от службы в армии под началом дискредитированного Февершема, освободившееся место занял Черчилль. Он перешёл в открытую оппозицию, выступив против своего господина и благодетеля, лишь в январе 1686 года, вынужденный к тому ходом процесса против лорда Деламера - последнему вменили соучастие в монмутовом мятеже. Король назначил Джеффриса председателем суда пэров, а Джефрис назначил судьями тридцать пэров. Все тридцать - пишет Маколей[192]
... были непримиримыми политическими врагами обвиняемого. Пятнадцать из них, полковники, могли лишиться доходного командования по неудовольствию короля. ... Каждый судья, начиная с низшего, должен был подняться и произнести собственный вердикт, поклявшись честью, перед большим собранием. И вердикт этот, данный от его имени, должен был прозвучать по всему свету и стать нетленным достоянием истории.
Джеффрис, как то естественно предположить, действовал не как судья, но как прокурор. Главным свидетелем от короны стал профессиональный доносчик; но Деламер был опасным вигом. Король занял своё место в Лордах, и грозно оглядывал действо. Судьи удалились, и совещались около получаса. Первым выпало говорить младшему между ними, барону Черчиллю. Он встал с непокрытой головой, и, положив руку на грудь, возгласил: Невиновен, клянусь честью![193] И все тридцать пэров повторили за ним оправдание. Король не скрыл досады. Провал короны в обвинении Деламера, отозвался облегчением в обществе, и означил конец времени мщения за восстание Монмута.
Король освободился от парламентской оппозиции, постоянно отсрочивая сбор Палат, и, весь 1686 год, предпринимал многое для облегчения жизни братьям по вере. Прежде всего, он пожелал вывести католиков, служащих в армии, из-под действия Тест-Акта. Он посоветовался с судьями о способах. Могу ли я - спросил он судью Джонса: последний споспешествовал Джеффрису в кампании после Седжмура - могу ли я найти двенадцать судей, кто дадут мне власть освобождаться от законов? - Ваше величество может найти двенадцать судей, кто помогут вам; и едва ли они будут двенадцатью людьми, сведущими в законах. Однако, после ряда отставок и назначений, к пробному слушанию (дело полковника Хейлса) корпус судей удалось укомплектовать. И суд подтвердил, что король вправе освобождать человека от обязательств, возложенных законом. В мае, вооружившись этим решением, Иаков пожаловал таковое освобождение викарию Путни, и тот сохранил за собою бенефицию, несмотря на то, что перешёл в католичество. Одновременно, король пригласил в Тайный совет пэров-католиков. В январе 1686 года он учредил Церковную комиссию, возродив инструмент, коему отказал в законности Долгий парламент - комиссия занималась главным образом тем, что воспрещала англиканам проповеди против католиков. Епископа Комптона успели к тому времени выгнать из Тайного совета. Теперь его, епископа Лондона, отстранили и от должностных обязанностей.
К концу года Иаков ко всеобщему беспокойству уволил многих, преданных ему прежде друзей. Галифакс, спасший его от Билля об Отводе, прозябал в деревне. Денби, вышедший из Тауэра лишь в 1864 году вынужденно оставил прежнюю мечту о Короле и Церкви. Он понял, что мысли этой не дано осуществиться при короле-паписте. Альбемарль, сын генерала Монка, творца реставрации, в гневе ушёл с королевской службы. Епископ Комптон, сын павшего на гражданской войне графа Нортхемптона, сам в прошлом офицер лейб-гвардии, перешёл в радикальную оппозицию. Созыв парламента - верного прежде парламента, что поддержал Иакова против Монмута и Аргайля - непременно обернулся бы раздором. Парламентские лорды и сквайры сидели в молчании и беспокойстве в своих домах, своих поместьях. Церковь, оплот легитимности, бурлила в подавленном волнении, и взорвалась бы в гневе, когда бы не мощное влияние Рочестера на епископов и духовенство. Вскоре обоим Хайдам, Рочестеру и Кларендону, придётся покинуть сторону короля.
В те дни король выступал действующим главой исполнительной власти: он выбирал себе министров, и проводил собственную политику. У министров не было никаких прав на оппонирование. Король дал ясно понять, что станет пользоваться услугами тех лишь министров, кто безоговорочно примет его точку зрения. И если тот или иной деятель не мог понять, как послужить королю в удовлетворение желаний последнего, он мог оставить всякие надежды на дальнейшую государственную службу. Дистанция между оппозицией и заговором сузилась до неощутимости. Что, когда, как следует предпринять? Всем стало ясно, что король, со всей честной решительностью его натуры, деятельно и целенаправленно меняет веру и законы страны - непререкаемо, вопреки всем данным обещаниям. И все, на некоторое время, замолчали. Виги гневались, но партия их пребывала в затмении. Тори страдали не меньше, но были партией, безотрывно связанной с церковью Англии. И одна из важнейших доктрин этой церкви, установленная с реставрацией, воспрещала всякое действие, направленное против королевской власти. Король, с беспредельным неразумием, лишил себя этой защиты.
По ходу 1686 и 1687 года, пока король держал парламент в бездействии и, приостанавливая действие законов, назначал римокатоликов на высокие государственные должности, военные и гражданские, виги и тори сходились всё теснее. Разногласия, неодолимо разделившие их в прошлое царствование, отступили перед растущей, общей опасностью. Иаков не мог не видеть, что сам объединяет партию, покушавшуюся на его брата с партией, вставшей со всем рвением на защиту его брата. Он чувствовал, как против него собираются в молчаливой враждебности все те силы, что сделали реставрацию, что служили опорой его собственного трона. И он прибегнул к политическому манёвру - к попытке одновременно отважной, искусной и дурно просчитанной. До сих пор он старался облегчить жизнь одним лишь католическим подданным. Теперь он сделал ставку на помощь диссентёрам, кто равным образом подпадали под уголовные законы. Он решил объединить два политических фланга против центра, и повести старый римокатолический нобилитет и джентри за дело, общее с пуританами и Круглоголовыми. Все, кто страдал за свою веру от жестоких законов, установленных требованием большинства нации, должны были объединиться вокруг короля во имя веротерпимости. Католические храмы и тайные молельни нонконформистов должны были увидеть в нём защиту от государственной церкви. И если виги и тори объединятся, он победит их коалицией папистов и нонконформистов под вооружённой силой Короны. Воистину, он не отверг даже тёмных, упрямых людей, кто шли за монмутовыми штандартами на Западе, или ожидали герцога в иных местах; тех, чья вера была полной противоположностью его собственной; тех, чьи отцы отрубили голову его отцу. С такой опорой он сумеет привести к повиновению церковь Англии, Кавалеров, и этих, своевольных вигов. Уильям Пенн, квакер-придворный, персона значительная в прошлом и нынешнем царствовании стал искусным и влиятельным агентом короля. Теперь, затем, король Англии стал рушить естественные столпы своей власти и подпирать трон свежими, плохо подобранными, непрочными жердями.
Странное отшествие от курса нашло отражение в иностранной политике. Иаков, даже и беспокоясь о французских деньгах, никак не хотел оказаться в вассалах французского короля. Он восхищался, и желал завести у себя систему французского государственного управления, как светскую, так и церковную, но негодовал при любом намёке на государственную зависимость своего королевства. В 1685 и 1686 Людовика XIV небезосновательно тревожило поведение его царственного собрата. Иаков энтузиастически приветствовал отмену Нантского эдикта, но протестовал против гонений, развязанных в родовой земле Вильгельма - маленьком княжестве Оранж. Расторопная и лояльная, пусть и с подкладкой выгоды, помощь, оказанная Вильгельмом во время восстания Монмута, обернулась дружескими отношениями между дворами Англии и Голландии. Между Иаковым и его зятем завязалась тёплая переписка. Теперь, когда приходилось полагаться на отечественных нонконформистов, Иаков склонялся к тому, чтобы ради великой цели - католической Англии - объединиться с европейским защитником протестантской веры. Уильям Пенн поехал в Голландию, чтобы склонить Оранского к следующему плану: Англия поддержит Голландию против Франции, если Вильгельм поможет Иакову провести Декларацию о Веротерпимости в интересах английских католиков и диссентёров.
Парадоксальная политика. И она разбилась о каменную прочность личного, с дальним прицелом, интереса Вильгельма. Связи Оранского с Англией прочились и множились с каждым днём. Сундук его был до краёв заполнен жалобными письмами от торийских и вигских магнатов. Он понимал, с каким неразумием Иаков убирает от себя старых, традиционных друзей английской монархии, кого приводит им на смену; он видел, что Иаков окружает себя элементами, пропитанными духом ограниченной монархии - в ту пору это считалось республиканизмом. Он не собирался опираться на столь шаткий авторитет. Полагая альянс с Англией важнейшим делом для защиты протестантизма, Вильгельм не искал его через такового сомнительного посредника. Он видел, как за мишурой политики Иакова поднимается гнев нации, он держал курс, благоприятный для собственных его притязаний. Итак, он не стал поддерживать Декларацию о Веротерпимости.
Вильгельм поддерживал самое тесное общение с Галифаксом. Великий Оппортунист остро переживал перемены в судовой роли[194] и обрушил всю тяжесть своих прозорливости и влияния на борьбу с новыми персонажами. Не думаю, что предпринимаемые теперь меры - писал он в письме от 20 июля 1686 года,
... способны побудить человека сесть за азартную игру, после того, как его вышвырнули за полемику; разве что он сумеет освободиться от глупой привычки, называемой принципами; полагаю, впрочем, что некоторые ничтожества меняют эту привычку, словно одежду по велению моды, каковой бы она ни была: такова широта их взглядов. Я пока не готов к такому, а следовательно - слишком туп, чтобы пуститься в подобную суетливую торговлю вместе с теми, чей политический рост состоялся вчера и стремглав [намёк на Сандерленда]. Я слишком медлительная кляча, чтобы идти в ногу с этими, кто идут теперь в галоп. Четыре новых тайных советника [все католики], Высокая Комиссия [Церковная комиссия] и всякие иные устроения внутри означенного, позволяют уверенно надеяться на то, что - по здравому размышлению - случится дальше.[195]
Так пишет Галифакс!
Хайды пали в январе 1687 года. До этого, долгое время им приходилось трудно на их должностях. Кларендон в Ирландии трепетал перед Тирконелем; Рочестер, в Уайтхоле - перед Сандерлендом. В июне 1686 года Рочестер пытался склонить Иакова к умеренности, через посредничество Катарины Седли: некогда протестантской любовнице герцога Йоркского. На некоторое время влияние Катарины возымело сильное действие. Она стала графиней Дорчестерской. Но усилия духовников короля, и неприкрытое негодование королевы вскоре вернули Иакова к ортодоксальной вере и семейным ценностям. Рочестер понёс вину, как за саму интригу, так и за её провал. Читатель вспомнит о том, как Хайд, в 1681 году, склонял Джеймса к протестантизму. Теперь они поменялись ролями. С октября 1686 года, Иаков старался обратить своего младшего свойственника в римскую веру. Рочестер очень дорожил офисом, и извлекал из своего места большие деньги. Но, в конце концов, он понял, что стоит перед альтернативой: покинуть Казначейство или обратиться в католичество. Далее он решил отдать своё дело на суд англиканской церкви, так, чтобы все увидели общественное значение спора. Он согласился выслушать богословские аргументы в пользу обращения в католицизм, и, проявив должное внимание, объявил, что стал теперь привержен протестантизму крепче прежнего. В то же время, он - приверженец ортодоксальной англиканской церкви - так беспокоился об опасном положении протестантов в Европе, что, как и Галифакс, считал необходимым делом объединение всех ветвей протестантизма для общего отпора.
Сандерленд высказывал королю те преувеличенные опасения, что Рочестер может обратиться ради того, чтобы удержаться в офисе. Король понимал лучше, хотя и испытал к исходу дела равно сильные чувства: досаду от упорства Рочестера в протестантизме, и удовольствие от изгнания Рочестера из министров. 7 января 1687 года Рочестера изгнали из Казначейства, а через три дня Тирконель заменил в Ирландии Кларендона. Уже до этих перемен, друг Хайдов, Куинсбери, вынужден был уйти с поста личного представителя Иакова в Шотландии; на смену пришли два католика, Перт и Мелфорт, о коих мы поговорим в своём месте. Указанными изменениями начался следующий период правления Иакова II. С приостановки деятельности парламента в конце 1685 года началось противостояние Кавалеров и англикан трону. С удаления Рочестера начался период революционного заговора.
Тем временем Иаков набирал и готовил армию. Вооружённые силы Карла II в семь тысяч человек обходились в 280 000 фунтов в год. Иаков тратил 600 000 фунтов в год на содержание более двадцати тысяч солдат. Три полка[196] лейб-гвардии - Синие; десять конных и драгунских полков, два полка гвардейской пехоты, и пятнадцать линейных полков, помимо гарнизонных частей, стояли под ружьём к февралю 1686 года. Каждое лето, в Хаунслоу развёртывался огромный лагерь - в наущение лондонцам. В августе 1685 года в лагерь стянули десять тысяч солдат. Через год Февершем смог собрать там пятнадцать тысяч человек и двадцать восемь орудий. Король часто посещал лагерь, ища популярности у офицеров и рядовых. Он ходил к мессе, что шла в деревянной, возимой часовне, устанавливаемой в центре лагеря между расположениями конницы и пехоты. Он наблюдал за учениями войск, обедал с Февершемом, Черчиллем, другими генералами. Он по-прежнему насыщал армию офицерами-католиками и ирландскими рекрутами. С ним был священник, Джонсон, человек, некогда поротый плетьми и простоявший у позорного столба на пути от Ньюгейта до Тайбурна за мятежный памфлет в адрес протестантских солдат. Король успокаивался видом своей огромной армии: страна не знала подобного со времён Кромвеля, ничто во всей Англии не могло противостоять такой силе. Он назначал на государственные должности новых и новых католиков. Сын Арабеллы, теперь восемнадцатилетний герцог Бервикский, стал губернатором Портсмута; католики руководили Гуллем и Дувром. К середине лета 1688 года флотом Канала командовал адмирал-католик.
Вскоре за увольнением Хайдов, Вильгельм послал в Англию доверенного посла. Дайквелт, голландец, благородный человек высокого положения, прибыл в Лондон отчасти для того, чтобы от имени Оранского ходатайствовать перед Иаковом об умеренности в проводимых последним мероприятиях; отчасти же для установления связей с лидерами оппозиции. Дайквелт, почти ультимативно, предупредил Иакова о том, что ни Вильгельм, ни Мария, случись им унаследовать корону, не продолжат ни одного из его католических начинаний. Даже при отмене Иаковом Тест-Акта они восстановят его в действии, и станут править в сотрудничестве с церковью Англии и по законам парламентской системы. За гневом на таковое вмешательство в его дела, король вполне мог упустить из внимания факт, что принц Оранский одновременно, устами Дайквелта, объявляет его, Иакова, подданным конкурирующую политическую программу. Дайквелт встречался со всеми оппозиционными деятелями, выслушивал их мнения и уверения, и, одновременно, давал им ясно понять, что Вильгельм и Мария поддержат их в борьбе, и станут защитой в невзгодах.
Несколько месяцев король и католическая партия тешились планом объявить Анну преемницей трона на условии её обращения в католичество. План этот, рассматривался ли он серьёзно, либо то были лишь слухи, обрушил Кокпит в самое бурное беспокойство. Протестантский кружок сплотился, стараясь держаться крепче. Принцессу Анну одолевали страх и гнев, при мысли о покушении на её веру; она дошла до того, что посчитала себя едва ли ни мученицей. Укрепляемая и наставляемая епископом Комптоном, постоянно держа при себе сердечного друга, любимую Сару, которая, опосредованно действовала на подругу наущением Джона Черчилля - тот, впрочем, общался с принцессой и напрямую - Анна вместе с супругом пришли к тому, что стали откровенными антагонистами короля отца.
Ещё 29 декабря 1686 года, до приезда Дайквелта, она писала сестре, Марии о своём друге, лорде Черчилле. Уверена - такими были её слова - что он всегда и во всём подчиниться королю, если это не станет противоречить его вере - итак, он скорее распрощается со всеми своими постами и всем, что имеет, чем переменит религию. В феврале Анна попыталась - несомненно, по совету Черчилля - добиться разрешения на поездку к сестре в Гаагу. Барильон весьма встревожился, прекрасно поняв смысл настояний принцессы. Анна настаивала на том, чтобы король отпустил её, но он категорически отказал! 14 марта он докладывал, что Анна
разработала план, по которому должна была уехать в Голландию под предлогом встречи с сестрой. Оказавшись там, она не стала бы возвращаться обратно, и протестантская партия получила бы усиление после такового объединения двух принцесс, законных наследниц короны; они смогли бы публиковать декларации и протесты, направленные против всего католического движения. Король Иаков несколько подозревает Черчилля в том, что тот принял участие в замысле указанного путешествия, и что жена Черчилля, фаворитка Анны, пробудила в принцессе амбиции.[197]
Под подозрение попали даже Рочестер и его жена. Дайквелт, несомненно, поощряет протестантский Кабаль. Епископ Уэльса проповедовал против правительства в присутствии Анны. И снова, 3 апреля: Принцесса Анна открыто выказывает ревностность к протестантизму, и ходит инкогнито в разные церкви, слушать популярных проповедников. Король всё ещё надеется обратить её в католичество.
В письме к сестре, Марии, Анна объясняет своё положение с исчерпывающей ясностью. Далримпл напечатал это письмо в сокращённой и искажённой форме, взяв его из манускриптов Томаса Карта. Он опустил три интересных места, и ошибся с датой на год, обманув тем многих историков, слепо переписывавших документ. В бумагах Спенсеров есть копия и мы - поскольку письмо это освещает положение Анны и Черчиллей - приводим его здесь, впервые в полном виде.
Кокпит, 13 марта [1687] года.
Передаю письмо с надёжным человеком, поэтому отважусь писать тебе откровенно: прежде всего, должна сказать, что мне было отказано в удовольствии, с коим я надеялась увидеть тебя этой весной, что, как ты можешь вообразить, не мало расстроило меня; и огорчение усугублено тем, что король дал мне разрешение на отъезд, когда я просила его в первый раз - в тот вечер я, вернувшись из Ричмонда, попросила у него разрешения для принца на поездку в Данию, и для себя - в Голландию, и он согласился немедленно, безо всяких сомнений, но через несколько дней сказал, что мне нельзя ехать. Итак, совершенно ясно, что он успел поговорить с кем-то, что кто-то настроил его против моей поездки, и, что определённо, этим неким был лорд Сандерленд, ведь король доверяет ему во всём; человек этот готовится к отчаянным действиям в интересах папистов, и, должно быть, испугался того, что я поведаю тебе правду о нём и в чём я не сомневаюсь - такое опасение и стало причиной запрета на мой к тебе визит; возможно, впрочем, что он вместе со священниками предоставил королю иные аргументы после которых и вследствие которых мне возбранено увидеть тебя, дорогая сестра
Припомни, как однажды я осмелилась высказать тебе моё собственное мнение о лорде Сандерленде: тогда я сказала, что он очень скверный человек, и с тех пор лишь укрепилась в таком мнении. Всякий знает как часто - в правление прежнего короля и теперь - он менял курс на противоположный; сейчас, чтобы исчерпывающе пополнить свои достоинства, он, со всем рвением, работает над обращением страны в папизм. Он постоянно со священниками, он побуждает короля действовать скорее чем, верю, намеревается сам король. Теперь наши дела идут так, что, через несколько времени в скором времени, по моему убеждению здесь не сможет выжить ни один протестант.
С тех пор, как я последний раз говорила тебе об этом, король не сказал мне ни слова о религии; но я ожидаю такого разговора каждую минуту, и решила, что претерплю всё, но останусь при своей вере. Скажу больше: если дойдёт до крайности, я скорее пойду просить подаяния, чем соглашусь на таковую перемену.
Этот достойный лорд не ходит публично к мессе, и слушает её приватно, в комнате священника, без посторонних, но лишь со своим слугой.
И его леди, неподражаемая в своём роде; угодливая, неискренняя, несправедливая женщина; но ласковая и умеет внушать любовь так, что поначалу может обмануть любого, хитрости её таковы, что требуют времени, чтобы в них разобраться. У неё нет недостатка в средствах, но она не платит никому. Она мошенничает по мелочам. Есть у неё воздыхатели, хотя и не так много, как у некоторых здешних леди; и при всех этих замечательных качествах она твёрдо привержена церкви, так что по стороннему взгляду может показаться чуть ли ни святой, а слушая её речи, всякий может подумать, что она безупречная протестантка; но она равным образом и та, и другая; определённо, лорд её не делает ничего без совета жены.
По тому, что я успела написать, ты можешь судить, в какие замечательные руки попали теперь король и королевство, и как тяжело всем честным людям, кто вынуждены учтиво общаться с этим лордом и его леди. Я получила твоё письмо касательно мистера Дайквелта только на прошлой неделе, но сама не отважусь поговорить с ним, потому что меня никогда не видели за деловыми разговорами, а названный лорд настолько бдителен, что я боюсь его. Итак, я пожелала, чтобы лорд Черчилль (единственный, кому я могу доверять; очень честный, по моему убеждению, человек и истинный протестант) поговорил от меня с мистером Дайквелтом, узнав, что тот хочет сказать мне, и я отвечу при ближайшей возможности, потому что теперь никто не полагается на переписку!
Я позабыла сказать тебе ещё об одном деле: здесь думают, что этот благородный лорд [Сандерленд], столкнувшись с тем, что всё идёт не так, как ему желательно, станет искать повода для ссоры со двором, и уйдёт в отставку; и при таком обороте дел непременно подумает о том, чтобы прийти к вам с любезностями.[198]
Не могу умолчать ещё об одном деле, имеющем касательство до вас, именно: король может возыметь желание пригласить тебя и принца Оранского приехать к нему с визитом; я думаю, что вам будет лучше (если вы сумеете найти благовидный повод) не делать этого; сама я готова поклясться в том, что у короля нет дурных намерений ни на кого из вас, и всё же, теперь, когда люди говорят одно, а поступают иначе, никто не может уйти от опасений: если кто-то из вас решит приехать, я буду счастлива принять тебя или принца; и в то же время, если ты или принц приедете, я буду бояться вопреки рассудку, страшась некоторых плохих последствий для любого из вас!
Молю, не показывай это письмо никому, и даже не упоминай о нём: очень прошу тебя не проговориться о том, что я здесь написала, никому, за исключением принца Оранского; ведь то, о чём я сказала здесь измена; тем более, что король приказал [мне] никому не говорить о том, что я собиралась в Голландию; боюсь, если он узнает, что это больше не тайна, он разгневается на меня, поэтому сожги это письмо сразу же, как прочтёшь; я не хочу чтобы о моих словах знал кто-то кроме тебя и принца Оранского. Когда представится следующий случай, я, может быть, сумею сказать больше, но для этого раза я написала достаточно, и ты, надеюсь, простишь меня за то, что на этом я закончу письмо, попомни лишь, что никакие слова не могут выразить моей сердечной к тебе привязанности.
Письмо отчётливо открывает нам всю непоправимость разлома, успевшего к тому времени разделить Анну с отцом. Она - сама предположив - отвергает ту мысль, что Иаков станет соучастником убийства и, одновременно, предостерегает сестру, указывая на то, что посещение английского двора опасно для Вильгельма. Она уверена в том, что Сандерленд способен на любое злодейство. Не стоит сомневаться в том, что Анна, с её храбростью и простодушной верой, скорее пошла бы на смерть, нежели к Риму. В те дни во многих скромных домах те же страхи и та же решимость поднялись выше нужд повседневности.
По желанию Анны, Черчилль, от её лица, говорил с Дайквелтом. Он не принимал участия в излияниях принцессы к сестре, но письмо, написанное Вильгельму через восемь дней после объявления об отъезде посла, свидетельствует о том, что Черчилль - уже тогда - принял окончательное решение. Яснее выразиться было невозможно.
Принцесса Датская приказала мне поговорить с мистером Дайквелтом, и оповестить его о своём решении с тем намерением, чтобы он уверил ваше высочество и принцессу, её сестру в том, что она твёрдо, с помощью божьей, претерпит любые тяготы вплоть до смерти, но не обратится в другую религию; долг велит мне использовать представившуюся возможность, чтобы, через господина Дайквелта, дать вам, ваше высочество, и королевской принцессе личное моё уверение в том, что я неколебимо верен своей религии и что все мои должности и милости короля ничто не значат пред этой верностью. Король может располагать мною во всём, кроме этого; и, Бог свидетель, я положу голову на его службе, и даже найду в том радость: так я чувствителен к его благорасположению. Знаю, что неуместно досаждаю вашему высочеству, говоря так многословно о себе, и это дерзость с моей стороны при малой моей значимости для вашего высочества, но, полагаю, что ваше высочество найдёт великое утешение, а принцесса удовлетворение в том, что принцесса Датская может без опасений доверяться мне; я не веду жизнь святого, но решил, если так случиться, принять мученичество за свою веру, в этом я твёрд.
Дайквелт получил подобные заверения от Денби, Ноттингема, Галифакса, Девоншира, Рассела и других. В те же дни он понял, что король Англии не остановится на путях своих, и не подорвёт тем шанса Вильгельма. По возвращении Гаагу он повёл с Вильгельмом долгие разговоры. Будущий епископ Бёрнет, однажды и близко познакомившийся с практикой английского суда, пребывал тогда в Гааге, и дал независимое подтверждение докладам Дайквелта. Отныне и впредь к Вильгельму Оранскому пошли нити нашего домашнего конфликта и он, фактически, стал во главе революционного заговора.
Осенью 1687 года король посетил запад Англии с высочайшим визитом. С ним ездил и Черчилль. Два года назад Монмут воспламенил запад; теперь монарх побывал во многих мятежных местностях. Он ратовал за большую свободу совести для нонконформистов: и если смотреть на суть, намерение это возникло как побочное проявление тайной политики Иакова, как некоторое подспорье для окатоличивания страны, но монарх, говоря о свободе совести, возбудил надежды, на время возобладавшие над памятью о Кровавых судах. С такими речами король-католик нашёл добрый приём у ультрапротестантов, чьих родственников в недавнем времени казнил смертью, и продавал в рабство. Жалобщики сетовали на ужасные дела двухлетней давности, но громкие клики о свободе совести, об упразднении уголовных преследований за веру перекрыли их голоса. Иаков полагал, что сумеет одолеть старых, заслуженных друзей своего дома, своей династии, своей персоны располагая армией, где в большинстве своём служат ирландские солдаты под руководством католических офицеров; что он найдёт опору в союзе с массой диссентёров кромвелевской традиции[199]. Тщетные мечты! Пагубный просчёт! В лучшем случае, безнадёжная затея! В худшем движение к разрушительной гражданской войны. Но разве это не его долг если так вышло разорвать страну на части, во имя спасения собственной души к вящей славе Божьей? Так он ступил на путь к собственному краху, этот меланхолический зилот.
По ходу высочайшего визита монарх коснулся пяти тысяч золотушных, и посетил церемонию, устроенную в Винчестере католическими священниками.
В саду декана в Винчестере, перед обедом, король спросил Черчилля о том, что думают люди о принятой мною системе, о церемониях исцеления касанием в их церквях. Что ж, по правде - ответил Черчилль - люди выказывают очень мало одобрения, и говорят в один голос, что ваше величество торит путь к установлению папизма. Как! - гневно воскликнул король - Разве не дал я собственного, королевского слова, разве они не верят своему королю? Я дал свободу вероисповедания другим; я всегда придерживался мнения, что всем христианам нужна веротерпимость, и, что совершенно понятно, желаю пользоваться такой свободой сам, и никак не желаю, чтобы мои единоверцы терпели разорение, уплачивая за то, что привержены Богу по-своему. То, что я скажу вам, сир - сказал Черчилль - побуждено одной лишь ревностью к служению вашему величеству, кою я почитаю главнейшей целью после служения Богу, и заклинаю ваше величество верить мне в том, что ни один подданный во всех ваших трёх королевствах не дерзнёт рискнуть более моего, добиваясь ваших милостей и доброго расположения; но я протестантского племени, и намерен жить и умереть среди моих единоверцев; так же думают девять людей из десяти во всём нашем народе, и я опасаюсь (как велит мне сказать долг) что естественная ваша приверженность римскому католичеству при господствующем духе английского народа, приведёт к некоторым последствиям: и что бы, осмелюсь сказать, не говорили, мне страшно думать об этом. Король с терпением выслушал то, что вызвало бы в нём гневное негодование при ином собеседнике, и затем медленно ответил: Говорю вам, Черчилль, в том, что касается моей религии, я буду действовать так, как считаю нужным. Я буду благоволить моим католическим подданным, и буду отцом для всех моих протестантов, любого направления: но прошу помнить, что я король и правлю ими. Что до последствий, я оставляю их воле Провидения, и буду действовать властью, данной мне в руки Господом, предотвращая всё, что может повредить моей чести или умалить принадлежащие мне права. Затем король ушёл с мрачным видом и в тот вечер не разговаривал больше с Черчиллем. Он пришёл к обеду и, во время всей трапезы, говорил с винчестерским деканом, доктором Магготом, кто стоял возле королевского кресла, об одном лишь тезисе Слепого повиновения. Сам я - пишет автор - стоял подле, и слушал их, не зная причин такой беседы, пока лорд Черчилль не рассказал мне о разговоре, случившемся у него с королём.[200]
Провокации королевской политики множились день ото дня. Драйден дал им поэтическое оправдание в опубликованной тогда поэме Лань и пантера. В апреле 1687 года монарх, своей волей, преступив закон, издал первую Декларацию о Веротерпимости. Той же весной он попытался навязать колледжу Магдалины, Оксфорд, президента-католика, встретил сопротивление, и разогнал совет колледжа. Затем Иаков собрался устроить публичный приём папскому нунцию дАдда; визит назначили на июль, и король велел герцогу Сомерсетскому организовать церемонию. Последний возразил в том смысле, что публичные приветствия папским чиновникам запрещены со времён реформации. Я выше закона - сказал Иаков. Вы выше, ваше величество ответил герцог но не я. За это он немедленно лишился всех постов.
Король, говоря современным и привычным для нас слогом, выработал политическую платформу. Далее он должен был соорудить партийную машину; затем, обеспечить себе парламентское представительство с наказом отменить Тест-Акт.[201] Узкая база тогдашнего избирательного права допускала самые разнообразные манипуляции, движимые лордами-наместниками графств, магистратами, цеховыми организациями городов и местечек. На них и направились энергические усилия Иакова. Лорды-наместники, а среди них и богатейшие местные магнаты, кто не приняли идею королевской парламентской партии, и отказались пособить монарху, полетели с мест и стали заменены на католиков либо на верных назначенцев от двора. Король пошёл на коренную реорганизацию цехов и магистратских советов, добиваясь максимального представительства а если выйдет, то преобладания в этих органах папистов и диссентёров. Правительство пыталось отобрать у всех кандидатов ручательство непременно вотировать в пользу короля.
Королевские мероприятия привели к радикальным социальным и политическим переменам. Нобльмены и джентри взъярились - они лишились почётных местных постов либо стали вынуждены терпеть представительство и заседать вместе с новыми коллегами, прежними изгоями общества. В то время люди знали лишь две формы местного самоуправления: суд квартальных сессий и муниципалитеты. Видимыми проводниками исполнительной власти короля выступали лорды-наместники в графствах. Во всех этих установлениях, в их деятельности пошли растущие брожение и недовольство. Процесс внедрения папистов и диссентёров помимо или на места англикан и кавалеров переломал и перекроил каркас английской жизни. Беспредельно неподатливое британское общество, все от богатейших магнатов до массы городских и сельских простолюдинов - отчётливо понимали цель, характер и масштаб переустройства. Плебс наравне с джентльменами боялся Папы, ненавидел французов, и сочувствовал беженцам-гугенотам. Простолюдины не избирали представителей, но, тем не менее, имели голос простонародье стало глядеть на опальных господ с тёплой товарищеской доброжелательностью, и господа вполне ощутили перемену в атмосфере. Настроения людей нашли выход, стали влиятельной силой. Грубая сила не нуждается в избирателях. Современный католический писатель[202] рисует оппозицию времён Иакова как сопротивление богатых и властных людей. Это правда. И оппозиция богатых и властных добивается успеха, выступая за дело и за предубеждения широких масс, когда сами эти массы не способны добиться цели без верховного лидерства.
Шесть английских и шотландских полков на голландском содержании и на голландской службе одолели Монмута, и отправились назад, в Нидерланды. Иаков и его министры стали опасаться каверзы от этих отборных частей: не вернутся ли они однажды с новым, не столь дружественным визитом? В 1687 году Иаков и Людовик потратили несколько месяцев на план перевода полков из голландской на французскую службу. Кажется, здесь вмешался Черчилль, использовав своё персональное влияние то, что от него осталось на короля, чтобы предупредить отправку войск и, получив командование над этими полками, отбыть для службы в Нидерланды. Сандерленд говорит Барильону, 3 ноября 1687:
Уверен, что решение стало бы уже принято и назначение состоялось, когда бы не помеха от лорда Черчилля, кто долго и постоянно беспокоит короля настояниями о том, как выгодно последнему держать английский контингент в Голландии. Сам Черчилль стремиться получить командование над этими войсками. Но ему предстоит пережить огорчение, так как этот полк [sic] уже назначен герцогу Бервикскому и, как бы то ни было, командовать им будет опытный католический офицер в чине полковника...[203]
Желание Черчилля снискать указанное, с очевидностью важнейшее, назначение, не получило, как и предвидел Сандерленд, удовлетворения. Тем не менее, войска остались в Голландии. Вильгельм и Генеральные штаты, теперь уже не скрывая резонов и намерений, дали категорический отказ. Отношения между двумя правительствами опустились до острой неприязни. Вскрылись фундаментальные расхождения; в воздухе, после долгого перерыва, запахло войной.
Среди вельмож, попавших теперь под королевскую немилость, оказался и лорд Скарсдейл, лорд-наместник Дербишира. Первый камергер принца Георга Датского, он входил в группу Кокпита. Он отказался подчиниться королевскому приказу - Иаков велел сфальсифицировать результат грядущих выборов - и принц с принцессой послали Черчилля спросить короля, как тот желает устроить дело. Я принял решение - ответил Иаков - и в остальном полагаюсь на вашу исполнительность. Они же не сделали ровным счётом ничего, и король стал уговаривать министров на увольнение Скарсдейла. Министры отказались. Черчилли удалились в деревню, чтобы не стать замешанными в щепетильном споре вышестоящих, и уйти от ответственности за поведение принцессы Анны, кто правила своим мужем с той же непререкаемостью, с какой ею самой правила Сара. Барильон замечает, что при этом инциденте Черчиллям ежедневно грозила королевская немилость. Он добавляет, что Черчилль надеялся получить командование одним из новых, назначенных к формированию, полков, но здесь размышление Барильона верно лишь отчасти. Для Франции[204] предполагает он - очень выгодно назначение Черчилля; помимо этого, по мнению Барильона командование изымет его из нынешних, постоянных домашних тягот. Черчиллю, пишет Барильон, пока что не сообщено определённое решение о назначении его на полк.[205]
Граф Бервикский распорядился о наборе в 8-й линейный полк тридцати ирландских католиков; следом пошли протесты мятежного характера. Протест подали подполковник и пять капитанов. Они объявили, что подняли полк на собственные средства, для защиты короны в час опасности. Они без труда пополнят полк английскими рекрутами. Они грозили положить на стол свои патенты, если им станут навязывать чужаков. Военный совет уволил их со службы. Кларк, в Жизни короля Иакова II, говорит о том, что Черчилль подвигал суд к решению о казни шести офицеров. Маколей, воздержавшись, не стал скармливать читателям этого утверждения. Подобное наказание, в любом случае, выходило за пределы полномочий военного суда в мирное время. И если бы историк индоссировал эту историю своим авторитетом, то стал бы немедленно разоблачён. Маколей решил использовать свой обычный метод, обернув указанный эпизод доказательством собственной беспристрастности, правдивости и положив его в основание другой диффамации - куда более разрушительной и не так легко опровержимой. Он привёл эту историю, назвав её одной из тысяч фантазий, изобретённых в Сен-Жермене с целью очернения личности, что черна сама по себе так, что не нуждается в дополнительном раскрашивании. Здесь в который раз виден его принцип: очернение человека должно вестись искусными методами. Похвальным намерениям требуется искусное исполнение.
Защитники Иакова склонны преувеличивать число католиков в Англии. Часто приходится слышать, что старой вере осталась привержена восьмая часть жителей, невзирая на гонения, что растянулись на несколько поколений. Но согласно отчёту 1689 года, в целой стране насчитывались только 13 856 католиков, то есть меньше одного на четыре сотни населения.[206] Попытки короля создать значимое политическое действо из нескольких тысяч папистов, поставить их во главу местных и государственных институций, пусть и при поддержке диссентёров, разъярили, и обратили против короны сильнейшие, доминирующие силы нации. Папа, следуя политике святейшего престола, разъяснение коей мы дадим в следующей главе, не одобрял излишней ревностности Иакова, и папский легат в Англии настаивал на осторожности и умеренности. Старые католические семейства Англии, не считая единиц, стяжавших высокие места, весьма, как указано в мемуарах Эйлсбери, встревожились, оказавшись в опасно головоломной для них интриге нового короля. Они понимали, как этот непропорциональный фавор далёк от истинных их интересов; что сулит им эта затея; с какими яростью и гневом поднимется и накинется на них всё английское общество. А король тем временем упорствовал, и занимался укреплением армии.
Наиболее связные хроники тех дней обнаруживаются в донесениях Барильона Людовику XIV.[207] Опытный посол, надолго задержавшийся в средоточии света и политики, конфидент и казначей короля, двора, большинства ведущих политиков, получил непревзойдённую возможность для изучения и суждений о происходящем в Британии. Уже 24 декабря 1685 года, он докладывает, что Иаков собирается упразднить епископат для нонконформистов. 7 января он доносит Людовику отклик Иакова на отмену Нантского эдикта. Король Англии вполне понимает громадное значение и великую пользу дела, исполненного вашим величеством. 14-го: Король прервал заседания парламента, надеется распустить его и созвать нонконформистский парламент. 21-го он пишет об интриге Катарины Седли: Она получила титул и места герцогини Портсмутской. Лондон принял это как антикатолическую демонстрацию. Но к 25-му король вернулся в лоно семьи. Король, - пишет посол - обещал никогда больше не видеться с Седли. Он любит свою жену. Эта сильная и славная итальянка!. 28-го он даёт обзор событий: Свободу совести может обеспечить лишь нонконформистский парламент. Свою, вместе с парламентом, роль должна играть и ирландская армия. Она теперь пополняется офицерами-католиками. 19 февраля. Дано разрешение печатать католические книги. Король держит курс, невзирая на придворный Кабаль, настаивающий на созыве парламента. 25 марта:
Король с великой доверительностью объяснил мне, что все его планы направлены преимущественно к выгодам католической религии, в чём, по его мнению, он искренне сходится с вашим величеством, кто с таким успехом искореняет ересь во Франции.
И прибавляет Барильон католическая партия держит верх. 27 мая: Войска в лагере у Хаунслоу. 21 июня: Иаков рассказал ему, что дела идут не так хорошо, как он желал бы. Против него заговор. Мюррей, представитель короля в Шотландии, нашёл доказательства секретной переписки между принцем Оранским и шотландцами. 24 июня: Король озабочен тем, как справиться с антикатолическими проповедниками и учредил с этой целью Церковную Комиссию. 12 августа: Епископ Лондона отказался принять её юрисдикцию. 13 сентября: Решено не созывать парламент до следующего года. 13 октября: Рочестер предпочитает оставить Казначейство, нежели стать католиком. Но в отчёте от 13 января 1687 года написано, что Увольнение Рочестера повергло двор в великое оцепенение: все боятся за свои места. К февралю относятся первые сведения о миссии Дайквелта: тот заподозрен в намерении объединить протестантских лордов. Трудно отыскать альтернативу этому источнику, непрерывному перечислению важнейших событий. Слова Чарльза Джеймса Фокса цените это на вес золота точно подходят к депешам Барильона.
Долгие месяцы дело ограничивалось одними дискуссиями. Пасторы говорили против папизма. Важные люди Англии, государственные и духовные, взялись за перья, и по стране пошёл поток памфлетов. Иаков пытался выдвинуть наверх нонконформистов Галифакс ответил убедительным Письмом к диссентёру. Бёрнет писал из Гааги, призывая всех англикан твёрдо встать против политики короля, поступившись доктриной о непротивлении; Фогель, голландский greffier[208], отправил письмо, широко разошедшееся по Англии, выразив, как то понимали все, подлинные чувства Вильгельма Оранского.
Черчилль, как мы видели, всецело вовлёкся в движение против королевской политики. В декабре 1686 года, Анна писала Марии, уверяя последнюю в неотступном англиканизме Черчиллей. Мы привели выше её письмо от весны 1687 года. В марте 1687 года Черчилль беседовал с послом Нидерландов. В мае он писал Вильгельму. В сентябре состоялся памятный разговор с королём в Винчестере. В ноябре он попытался получить командование над английскими полками голландской службы, чтобы выпутаться таким путём из сети, оплетавшей его на родине. В декабре он поддерживал и побуждал Анну в её стремлении принять на службу лорда Скарсдейла пусть лорд в бытность наместником Дербишира и отказался выполнить приказы Иакова. Наконец, в январе 1688 года, Черчиль напрямую сказал Иакову, что не намерен поддерживать корону в борьбе за отмену Тест-Акта. В письме современника от 12 января говорится: Черчилль поклялся, что не станет исполнять требований короля.[209]
Черчилль высказался категорично; никто из высокопоставленных лиц, олицетворявших национальный характер в те критические дни, не сумел выразиться яснее, но Иаков, с одной стороны, по прежнему полагался на личную привязанность и верность Джона после двадцатилетней службы, и, с другой стороны, уповал на силу своих материальных благодеяний. Монарх не сумел понять, что для прозорливого ума никакие персональные пристрастия не перевесят в том выборе, что встал теперь перед каждым англичанином. Он знал, что Черчилль питает отвращение к его политике, но совершенно полагался на симпатию Джона к своей персоне. На случай столкновения, Иаков вполне надеялся на личное влияние, дипломатию, меч. Итак, слуга и хозяин остались в прежних, издавна тесных отношениях: Черчилль непременно дежурил в королевской спальне, при королевском туалете, стоял за креслом господина на обедах, скакал за его каретой ровно так, как в старые времена пажеской его службы.
Что думал он об этом положении щекотливом, невыносимом, непримиримом? Страдал ли или вовсе не размышлял о личных отношениях с королём? Внешне он не выказывал никакого замешательства. Черчилль был чрезвычайно, неподражаемо одарён такой прозаической вещью, как здравый смысл. Характер - рассудительный, спокойный, уравновешенный спасал его от глубоких душевных волнений в обескураживающих коллизиях долга и интересов; помогал в минуты тяжёлых решений, и, разумеется, берёг от рефлексий, когда наступало время исполнить задуманное, перейдя к делу. Выдающиеся люди зачастую чужды сентиментальности, и не склонны к раскаянию. Но наш герой был иным. Человечность шла об руку с его спокойной рассудочностью; он скрупулёзно оценивал все обстоятельства, великие и малые; затем буде необходимо сравнивал с одинаковой холодностью рассудка боевые шансы с ценою бесчестья, и после этого готовил победу викторию с минимальными жертвами. В начале 1686 года он бесповоротно решил противиться планам хозяина. Он видел, что один лишь принц Оранский может придти на помощь с вооружённой силой. И выбором его стал переход от Иакова к Вильгельму, в случае, если события примут наихудший оборот. В грядущем конфликте сам Черчилль имел вес и значение, поскольку мог влиять на принцессу Анну и пользовался авторитетом в армии. В его руках были два сильных средства, и он намеревался употребить оба в должный час, чтобы дело прошло гладко и разумно; чтобы общественный интерес и собственные его намерения получили, в результате, удовлетворение.
Наши дни не требуют подобной решимости. Любой офицер или придворный может уйти со всех постов, удалиться в деревню и ждать, покуда принесённая жертва не станет вознаграждена ходом событий или реакцией общества. Не то было с Черчиллем. Его уход из придворных, отставка со всех армейских постов значили полное отстранение от государственной и публичной деятельности, от любого участия в нависшем кризисе; но дело тем не исчерпывалось. Он, человек из ближайшего окружения суверена, активнейший участник многих отважных дел, поверенный во многих тайнах не мог добровольно уйти, не оказавшись под сильнейшими подозрениями и запросто оказаться в Тауэре вместо жительства при семье, в Холивеле. Он, несомненно, мог бы бежать из страны став очередным в длинной веренице изгнанников и эмигрантов, собравшихся в Голландии. Но при таком нехитром исходе он оставлял и своего короля и свою страну; он, одним махом, отлучал себя от протестантского дела, и оставлял на произвол судьбы принцессу Анну, кто до сих пор следовала его наставлениям, и в огромной степени зависела от него.
Нам известны две попытки Черчилля, когда он, определённо, хотел покинуть двор и, оставшись при некотором влиянии, уйти от лживых и мучительных отношений с королём. Если по его планам Анне разрешили бы уехать в Гаагу, принцесса непременно взяла бы с собой Сару и его самого. Если бы он получил командование над британскими войсками в Голландии, то оказался бы при Вильгельме и на влиятельном посту. Ему возбранили и то, и другое; теперь он мог либо уйти, став никем, не сослужив никакой службы делу а дело это глубоко затрагивало его - либо остаться на прежнем месте и встретить всякие хулы и опасности. Он сделал для Иакова, всё, что мог; однажды он честно объявил ему своё мнение, а потом, неоднократно и ясно, подтверждал сказанное. И если монарх, зная о таком умонастроении Черчилля, не уволил его от службы, то делал это единственно на собственный страх и риск.
И всё же занимательно зачем монарх оставил Черчилля при себе? Иаков дал ясно понять в ближнем своём окружении, что ищущие у трона покровительства и, тем более, дружбы обязаны принять его веру. И многие у трона, опасаясь королевского неодобрения, склонились перед обстоятельствами, дабы снискать королевскую улыбку. Солсбери, Мелфорт, Лорн, многие иже с ними сочли, что офис стоит мессы. И никто из добровольных отступников не нуждался в государственной службе сильнее Черчилля. Последнему не досталось обширных поместий, чтобы жить, удалившись, в деревне: он жил только службой - при дворе, в казарме, при принце и, тем не менее, нисколько не поддался никаким покушениям на свою веру. Он, молча и удручённо, наблюдал за падением Сандерленда, к кому был близок, и желал стать ещё ближе. Главный министр Англии, богатый и высокорожденный, босой, с непокрытой головой, покорно приполз, и униженно постучался в дверь исповедальни. И если бы Черчилль повторил этот путь, то стал бы правой рукой короля, его обожаемым другом, его архистратигом.
Но он постоянно, и, насколько нам известно, всегда без малейшего колебания, отвергал такую возможность. Разумеется, Черчилль был набожный человек, крещёный в англиканском протестантизме. Даже Маколей вынужден подтвердить, что он Всецело придерживался религии, усвоенной с детских лет. Но, вопреки его апологетам, мы сомневаемся в одной религиозной подоплёке такой стойкости. Он имел и политический умысел. Черчилль знал Англию, и в точности ведал силу религиозного пыла, что поднимался теперь над страной. Все великие люди, его друзья Галифакс, Шрусбери, Рочестер шли одним путём. И тем же курсом он вёл и принцессу Анну. Не стоит беспокоиться об армии, что собрана в Хаунслоу! Военные в худшем случае разойдутся по двум враждующим фракциям, а за морем выжидает принц Оранский с верными войсками. Но предположим, что прежде голландцев высадятся французы! Это так; и всё же он сделал выбор.
В наши дни слова веротерпимость, свобода совести встречают немедленное одобрение. Уголовное преследование католиков и диссентёров было злым и горьким делом. Никто не усомнится в благородстве короля Англии, чья цель - страна, где всякий человек ищет бога как ему угодно, пребывая в покое и мире среди сограждан. Но король Иаков Второй желал не такого: цель его была обратить страну в римскую католическую веру. Он начал движение к этой цели с борьбы за веротерпимость для своих католических подданных. И лишь в подспорье, не более того, Иаков неохотно, но решительно распространил программу на нонконформистов, чтобы, дав им защиту, привлечь на свою сторону. Король пишет Барильон исступлённо желает, чтобы католики и одни только католики пользовались свободой вероисповедания.[210] Можно не сомневаться в том, что если бы Иакову удался первый шаг, то вслед за выигранной в пользу католиков веротерпимостью, наступило бы господство католиков, а вслед за тем и надёжно обеспеченное католическое единообразие, конечная цель короля Англии, взявшего пример с Франции. Всё, что написано об Иакове, начиная с самого его обращения в римскую веру, доказывает, что он не знал никаких ограничений, кроме тех, что становились навязаны обстоятельствами, ни в религиозном рвении, ни в удовлетворении этого рвения насилием. Он восхищался, и восторгался нетерпимостью Людовика; он бурно ликовал вслед за отменой Нантского эдикта; он мечтал применить к собственной стране, утонувшей в ереси, вполне светские террор и муки как это удачно практиковал царствующий его собрат.
И наши предки, с поразительной проницательностью разглядели, как за мишурой слов о терпимости прорастают времена долгого, крепнущего ужаса; вытягивается бесконечная перспектива ига и гонений. Они видели, как день за днём на их берега всходят несчастные жертвы католической терпимости, что торжествует теперь во Франции милостью могущественнейшего мирового владыки. Они знали как тесно, как дружески сотрудничают правительства Англии и Франции; они поняли, что за беда случится со всем, что они любили, за что претерпели - и где во всём мире найдётся место им, следующей жертве, скорым беженцам и эмигрантам, если не встать и не победить, сразившись за права и свободы? И так не без сомнений и колебаний, но, в конечном счёте, с несгибаемой решимостью они встали на путь заговора и восстания.
Стоит воззвать к современному мнению, к этому судилищу, что шумно приветствует свободу совести, и, одновременно, ищет тайный умысел лишь на одной стороне. Неужели весь английский народ как принужденные к такому французы должен был безропотно принять религиозные убеждения: те или иные, любые; лишь бы совпасть в убеждениях с помазанником? Свободен ли король от подозрений, когда он, денно и нощно, строит планы, вербует приверженцев, и учит армии чтобы изменить всю жизнь, законы, верования своего народа? Уйдёт ли такой монарх от имени клятвопреступника, нарушителя твёрдых своих обещаний, при всех целенаправленно предпринятых уловках, обманах, манёврах; при всех стараниях заполучить повиновение силой либо фавором? Не повинен ли он в свою очередь в заговоре против собственных подданных? И не мятежник ли сам Иаков, кто покусился на души миллионов, на самое святое, самое драгоценное в этих душах? Определённо, мы видим в тех днях два противостоящих заговора и оба в действии; с двух сторон и обе готовы идти до конца.
За десять лет, прошедших от заключения Нимвегенского мира, Людовик XIV взошёл в зенит своей власти. Англия, занятая домашней склокой, перестала быть фактором европейских дел. Империю равным образом парализовали восточные дела. Ей потребовались все наличные силы, чтобы встретить нашествие оттоман. Одновременно, венгерское национальное движение разразилось вторым яростным восстанием, так что и император, и его генералы не сводили глаз с востока и юга. Коалиция, пресёкшая на некоторое время агрессии Франции в 1668 и 1678 годах, распалась. И Людовик, положившись на свою преобладающую силу, полностью отдался амбициям. Он потщился возродить в обширнейшем размере империю Карла Великого. Он выбрал себя кандидатом на имперский трон. Он углубился в планы, что должны были вернуть Испанию и её имперские владения в Новом свете французскому принцу. Он неутомимо вторгался к соседям. Интригами и подкупом, он удерживал Англию в расколе. Он язвил Империю с тыла, поощряя турок и мадьяр к набегам на монархию Габсбургов, усиливаясь, тем временем, в собственном лобовом натиске на западных австрийских границах. В 1681 году он перешёл Рейн и, прикрываясь доктриной объединения старых сеньориальных владений, оккупировал независимый протестантский город Страсбург; прежде и так же он присоединил к Франции большую часть испанской провинции Франш-Конте. Он захватил Казале, он сделал дальнейшие приращения на восточных границах Франции. В каких-то случаях захватам предшествовали юридические процедуры, но взятие Страсбурга обошлось без юридических формальностей.
Весной 1683 года, султан собрал в Адрианополе армию небывалую по тем временам в четверть миллиона человек, и пошёл через Белград на Вену. Император воззвал о помощи ко всему христианскому миру. Папа выступил за императора, подняв хоругвь Священной войны. Людовик, с леденящим безразличием, довольствовался тем замечанием, что времена крестовых походов остались в прошлом. Ян Собеский, король Польши, пришёл на выручку с сорокатысячным войском. В сентябре, христианская армия - Собеский с поляками, австрийцы под началом Карла Лотарингского, саксонцы и баварцы разбили турок под стенами Вены в восьмичасовой битве. Победители и присоединившаяся к ним Венеция сплотились в союз для дальнейшей войны с турками.
Международные обстоятельства благоприятствовали планам Франции, упрочивая её недавние приобретения на Рейне и повсюду. В 1684 году возобновившаяся экспансия пошла по всем направлениям. Людовик бомбардировал Геную, осадил Люксембург, собрал войска на испанской границе и, когда наследственная линия правителей Пфальца пресеклась, заявил от имени невестки права на большие территориальные компенсации в северо-западной Германии. Прочая Европа не сумела объединиться для сопротивления. К августу Людовик набрал такую силу, что сумел навязать обеим ветвям Габсбургов - имперской и испанской - Ратисбонский договор с двадцатилетними обязательствами, заставив их принять и согласиться со всеми французскими приобретениями. Соседи Франции согнулись в болях и страхе под неумолимым бичом.
На фоне скорбного хода дел гражданских, полностью объявились планы великого короля в его борьбе с протестантизмом. Человек с весьма посредственным образованием, Людовик сызмальства и твёрдо усвоил два принципа: Божественное Право и вредоносность протестантской веры. По мере того, как монарх становился старше, он всё более опасался тех, кто не разделял религии самого короля, и укрепился в той мысли, что протестантизм даёт пример вредного свободомыслия[211]. Впрочем, с 1661 по 1679, в своём стремлении обратить гугенотов, он ограничивался одними лишь методами пропаганды и неблагоприятными для протестантов трактовками жизненно важной для последних хартии - Нантского эдикта. Для лучшего окатоличивания гугенотов стало создано специальное управление, платившее 12 шиллингов 6 пенсов за каждого обращённого. Король возлагал на это учреждение большие надежды. Но и такой метод убеждения не откликнулся обильным потоком обращений, и никак не сказался на их искренности: тогда власти сочли нужным обратиться к жесточайшим мерам. В 1680 году в Пуату направили драгунский полк под командованием полковника Марильяка. Военные разместились по домам богатых гугенотов и стали разорять своих хозяев. По ходу исполнения вверенных обязанностей, они насильно волочили женщин, стариков и детей в церкви, кропили их святой водой, и объявляли католиками. Прочих протестантов пытали, пороли, и насиловали; в результате, в районе прошли тридцать тысяч обращений. Так начались драгонады. И слово драгонады стало некоторым резюме политики Франции в Европе.
Мадам Ментенон, любовница, предмет верной привязанности короля, его тайная жена, не одобряла жестокости при обращениях в католичество и протестовала против крайних форм принуждения; но король видел себя апостолом, хотя, по замечанию Сен-Симона, его метод евангелизации несколько отличался от деяний первоначальных Двенадцати. Затем последовал решительный удар по всякой веротерпимости. В 1685 году Людовик отменил Нантский эдикт. Отныне протестантизм стал преступлением во всех обширных французских землях. Экспроприация, тюремное заключение и смерть - таким наказаниям подлежали теперь сотни тысяч добропорядочных, умелых французов; так протестантам пришлось при новом курсе; а страшные предварительные приготовления воспретили им бегство от тирании через границы, как это происходит в России, в наше время. И наши предки увидели, что всевластный, ненасытный военный монарх стал неприкрытым, непреклонным врагом протестантизма, равно как и врагом политической свободы любого рода во всей Европе; с этого времени агрессии Людовика пошли против людских душ и сердец во всех народах, во всех землях, куда он только мог дотянуться.
Я нетерпим к лакейским перьям, кто тщатся обрядить этот долгий и отвратительный процесс в одежды достоинства и чести. Всю свою жизнь Людовик XIV оставался общеевропейским проклятием и паразитом. Мир не знает худшего врага человеческой свободы, явившегося в наружном обличье цивилизованного человека. Ненасытный аппетит, холодная, расчётливая жестокость, непомерное самомнение вооружились огнём и мечом. Вапа культуры и хороших манер, пышных церемоний и изощрённого этикета лишь оттеняет злодейскую историю этой жизни. Завоеватели-варвары древности, первобытные выходцы из бездны, выглядят куда лучше этого денди, кто терзал своё столетие, шествуя в парике и на высоких каблуках между кланяющихся и расшаркивающихся любовниц и духовников. Человек мелкий и посредственный во всём, кроме низких страстей и власти, Король-Солнце во всём его надменном великолепии более пятидесяти лет беспокоил и разорял человечество.
Когда марсовы утехи на время приостанавливались, строительные причуды короля высасывали богатства Франции не хуже войны. Тысячи солдат и рабочих погибли в бесплодных попытках доставить воды Эры к фонтанам Версаля. Французские вельможи, приглашённые или призванные из своих поместий, вынуждены были кучиться в муравейнике королевского дворца, среди раболепия, интриг, скандалов. Они теряли всякую связь с нанимателями своих земель и всякое влияние на политические дела, так что французская корона скудела той силой, что исходит от единения народа с патрициатом. Всё было пожертвовано ради почестей одному человеку. Прошлое Франции и её будущее, доходы и народонаселение страны - всё расточалось ради личных амбиций этого человека. Во всех своих войнах он никогда не осмеливался лично вести армии в бой. Он хорохорился между подобострастными подхалимами, читая вслух или повторяя на память поэмы и посвящения покорных литераторов в свою честь - и слёзы текли по его щекам. Живя жизнью более эгоистической, нежели даже и Наполеон, он, в слепоте своей, приготовил гильотину, что через сто лет убила его безвинного наследника, и уничтожила не только династию, но социальную систему, обретшую в Людовике XIV совершенное воплощение.
По счастливому стечению обстоятельств, Людовик вёл свои агрессии без разбору. В те самые годы, когда цеп его тяжко рушился на гугенотов, когда он посчитал себя богоизбранным защитником Старой Веры, - в те же годы он ввязался в серьёзнейшую борьбу с Папой. Подобно Генриху VIII Английскому, великий король был хорошим католиком, кто хотел быть сам себе Папой. Вся Франция должна была склониться пред его волей. Он находил нетерпимым - так говорит Ранке в своём фундаментальном труде - то, что Святейший престол может вести независимую политику; тем более и часто политику прямо противоположную его собственной.[212] Он занимался организацией и дисциплиной французских священнослужителей так дотошно, словно духовенство служило в его армии. Он, не смущаясь, управлял всеми духовными доходами и бенефициями. Он контролировал не только гражданскую, но, во многом и духовную сторону церковной жизни. По его распоряжениям, галликанская церковь отдалась патриотическому низкопоклонству. Священники соревновались в энтузиастической сервильности с придворными, поэтами и драматургами Версаля. И все, кто не шёл в ногу падали от той же вредоносной руки, что уничтожила гугенотов.
Но за пределами Франции в духовной сфере Людовик столкнулся с решительным сопротивлением. В длинном ряду людей на папском престоле, и людей часто замечательных, одно из важнейших мест принадлежит Инносенту XI. Доблести этого примечательно дельного и сведущего праведника, начавшего жизнь солдатом, сияет сквозь века вполне современным светом. То, как он придерживался скромности и самоотречения во всём, что касалось его самого; как сумел уйти от непотизма и роскоши; как сумел ограничить расходы Ватикана и стал однажды платежеспособным, одновременно удовлетворив кредиторов; как вычищал каждый департамент папской администрации - всё это признано за ним теперь, и признано по заслугам. Человек обходительный, терпимый и гуманный, широких взглядов, с глубоким пониманием жизни, он, тем не менее, действовал с присущими ему непреклонной волей и неколебимым дерзанием. Он использовал оружие духа с точностью умелого дуэлянта; он понимал вопрос политического равновесия в Европе не хуже любого из тогдашних политиков. Таким был этот Папа, вставший против Людовика с умением и спокойствием Вильгельма Оранского и бивший его так же решительно, как Мальборо.
Глава католической веры не принял французских гонений на протестантов. Он осудил обращение подобными методами. Церкви не нужны вооружённые апостолы. Человек должен быть введён во храм, его нельзя тащить в храм насильно. Людовик организовал галликанскую церковь против Святейшего престола. Он послал в Рим посла с сильным кавалерийским эскортом, устроив дипломатическую драгонаду. Они пришли с лошадьми и колесницами - сказал Инносент - но мы победим именем Божьим. Он отнял у французских епископов все духовные полномочия. Он объявил декреты об интердикте и экскоммуникации, и, что не менее важно, поставил себя во главу новой европейской коалиции против французского доминирования. Он перекрыл разлом реформации и инквизиции мечами протестантских армий. Он утешал католического императора. Он сообщался с кальвинистом принцем Оранским. Мы обязаны ему, более чем кому бы то ни было тем, что войны Вильгельма и, затем, после смерти Инносента - войны Мальборо - стали для Европы войнами секулярными, борьбой за мировое обладание, и линии фронтов - в отличие от войн предыдущего поколения - не пошли по линиям религиозного раздела. В армиях Великого союза, католические и протестантские войска дрались об руку, в духе непререкаемого товарищества. Месса и англиканские обряды шли рядом, в одном лагере, на одном поле; и рядом с этими алтарями звучали псалмы и проповеди голландских кальвинистов, английских пуритан и шотландских пресвитериан, а потом они - все вместе - рвались, в праведном пылу, на общего врага.
И спрошу ль храбреца, что бок о бок со мной
Бьется стойко, в одной ли мы вскормлены вере?
Иль пожертвую другом, который горой
За меня был всегда, для церковной химеры?[213]
Так миру открылась эра веротерпимости, и открыл её меч; так - среди раскола между католиками - сумели выжить протестантские государства.
Тем временем Европа с испугом и отчаянием смотрела на расширение Франции, на избиение гугенотов. Великий курфюрст сделал решительный выбор после отмены Нантского эдикта, после воцарения в Англии католического короля. Он покончил балансировать между Францией и Империей, и протянул руку дружбы Вене. В Потсдамском эдикте, он пригласил в Пруссию беженцев-гугенотов, несчастных, кто бежали теперь ради спасения жизней от ига своего правителя. Некоторые из великих воинов Франции навсегда покинули родную страну. Прославленный гугенот, маршал Шомберг, пошёл на службу к Великому курфюрсту, и, в конечно счёте, стал доверенным военачальником Вильгельма Оранского. Анри де Массо, второй маркиз Рувиньи, так отличался в военном деле и дипломатии, что Людовик предложил ему службу на исключительных условиях, чтобы уберечь от последствий отмены эдикта. Рувиньи отказался, и направил стопы в Англию. Позднее он стал графом Голуэем, одним из лучших генералов Мальборо в войне за Испанское наследство. После изгнания гугенотов - писал голландский государственный деятель вся Европа наводнилась врагами Людовика XIV.[214] Теперь не только протестанты, но все государства Священной Римской империи, в особенности на юге и востоке Германии, объединились ради взаимозащиты. В июле 1686 года составилась Аугсбургская лига. Союз этот, пусть только оборонительный, призванный удерживать статус-кво, включая в это понятие и унизительные Ратисбонские условия - стал вместе с тем военным объединением против Франции с точными, строгими и далеко идущими военными обязательствами участников. В Лигу не вошли ни Голландия, намерения которой шли ещё дальше, ни Англия, насильно, против воли, притянутая на противоположную сторону.
И, тем не менее, между всеми классами Англии стали распространяться глубокие страх и отвращение к Франции. Чувства эти крепко охватили не только правящую, несмотря на все сильнейшие расхождения, верхушку - зашевелилась вся нация, до самых её глубин. Знойным летом 1685 года Эдмунд Верни стал голосом ярой ненависти английских сквайров к Людовику XIV: Слышал я, что он смердит живьём, и язвы его станут смердеть пуще после смерти: такая о нём останется вечная память.[215] В пивных и на деревенских завалинках пели песни и баллады, выражая в них народную неприязнь к Франции. В приходских церквях собирали пожертвования гугенотам. Беженцы обильно заструились в Англию, они взяли с собою ремёсла и искусства, их принимали с симпатией и гостеприимством во всех слоях общества. Английский рабочий люд встречал французских ткачей, работников по шёлку, бумажников, не как чужаков, но как братьев-мастеровых; многие важнейшие в дальнейшем для нас ремёсла получили основание в их умении, в секретах их дела. Критически настроенные наблюдатели внутри самой Франции - Вобан и, после, Фенелон, смотрели со скорбью - о том говорят их записи - на неодолимую вражду, что глубилась между Францией и всеми её соседями, и исчисляли, в тревогах, вред и тяжесть огромной военной ноши, бременившей страну. Так медленно и порывами, и, тем не менее, неостановимо, вопреки всем классовым барьерам, безотносительно к расам, верам и выгодам прорастало общее мнение, овладевая миллионами людей.
В роковом 1688 году всё сошлось для кульминации. Борьба великого короля с Папой пришла к апогею. К спорам о власти понтифика и экстерриториальности добавился конфликт вокруг Кёльнского курфюршества. В те дни правление это было ассоциировано с Кёльнским архиепископством с престолами в Мюнстере и Льеже. Иными словами, Кёльнское государство описываемого времени являло собою длинный пояс земель на самой границе, отделявшей Францию от Германии и Голландии; в указанную полосу входили все основные предмостные укрепления на главных реках. Теперь открылась вакансия архиепископа. Людовик выбрал из всех претендентов особого человека с соединением двух качеств: тот был злейшим и опаснейшим врагом протестантов, и, одновременно, персоной особо неприятной Папе: кардинал Фюрстенберг, страсбургский епископ, германский священнослужитель, более тридцати лет исправно служивший французам. Он, по сути, руководил работой французских дипломатических представительств в Германии. За избранием Фюрстенберга следовала оккупация Кёльна французскими войсками. Теперь не только Пфальцу, но и кёльнскому курфюршеству предстояло в скором времени войти во французскую систему, все понимали это с очевидностью. Голландия, Пруссия, германские князья, император Леопольд объединились против общей опасности, ради общего интереса. Тем временем, натиск турок на Империю удалось в огромной степени ослабить. Великая битва при Мохаче, выигранная вопреки приказам, удивительным образом, действиями имперского военачальника растущей известности - принца Евгения - на время подорвала наступательную силу оттоман. Крупные австрийские войска освободились для действий на западе. И чтобы развернуть против Франции всю мощь новосоздающегося Великого Альянса, союзникам не хватало лишь веса протестантской Англии. Но Англию цепко удерживал Иаков II.
По острову медленно, но неотвратимо вытягивалась линия грядущей баталии. Всё указывало на близкую гражданскую войну как в 1642-м, когда штандарт Карла I развился в Ноттингеме - но с совершенно иным составом противоборствующих сторон. Король держал наготове большую, хорошо оснащённую регулярную армию с мощными артиллерийскими средствами. Он полагал, что сумеет распорядиться флотом в то время не самым большим среди мировых флотов, но в мире не было лучших по качеству военно-морских сил. При необходимости, Иаков мог призвать сильные подкрепления из Ирландии и Франции. Он вверил главные морские порты и арсеналы верным католическим губернаторам. Он пользовался крупными коронными доходами. Он опирался на католиков-единоверцев, управлял всеми действующими лицами правительства и двора и, как ни удивительно такое сочетание, мог рассчитывать на обширную массу диссентёров и Круглоголовых, кто остались верны старым традициям. Он полагал, что государственная церковь обездвижена собственной, англиканской доктриной непротивления и позаботился о парламенте, предотвратив любые коллективные акции коммонеров.
На противной стороне мы найдём не только вигов, но всех прежних друзей престола. Против монарха вышли люди с холодными головами и горячими сердцами, при оружии, в полной боевой готовности: трон осадили те, кто сделал реставрацию; сыновья тех, кто дрался и умирал за родителя Иакова при Марстон-Муре и Несби; вышла церковь, сторонница Божественного Права; её епископы и священники, оплатившие этот принцип долгими страданиями; вышли те университеты, что некогда плавили посуду для казны Карла I, и слали в его войско юношей-студентов; вышли вельможи и деревенские джентльмены, с их неотъемлемыми от монархии интересами.
Назревало странное дело, удивительная война, где сыновья пуритан, Круглоголовых, цареубийц объединились с католиками и католическим королём против клира и Кавалеров, в то время как основная масса населения оставалась бесполезными, возбуждёнными зрителями. Готовилась война крайних с состоятельными; война пёстрой коалиции против ядра английской жизни, средоточия национального богатства, знатности, достоинства. В те дни очень немногие понимали истинное значение каждого элемента в этих разнородных соединениях, немногие умели предвосхитить их суммарную силу в грядущем столкновении. И, паче всякого расчёта, оппонентов ждали непрогнозируемые риски и случайности бранного поля.
Сильнейшие страхи и сомнения мы полагаем, что в те дни именно с такими чувствами должны были глядеть в будущее нобльмены, джентри, клирики - воплощение общественной жизни Англии в современном значении этого термина. У них не было ни армий, ни законных средств для протеста, полемик, выражения мнений. Они не могли воззвать к миллионам горожан и крестьян те не были избирателями. Они воображали, как полноправный а сами они были первейшими адептами такого права как полноправный монарх пойдёт на них со всей коронной силой; они предполагали, что французские войска готовы в любой момент появиться на английских берегах, и подавить мятеж об руку с иезуитами, обок с потомками кромвелевых Железнобоких. Осенью 1688 года готовность аристократии и государственной церкви к национальному служению подверглась тяжёлому испытанию никогда прежде они не держали такого экзамена. И они не уклонились; они не усомнились. Они воплотили и осознали в себе дух английского народа[216]; они бестрепетно восстали против мешанины тайных, жульнических, нечистых антинародных затей и победили без боя. И победа, более того бескровная победа - стала одержана усилиями нескольких мужчин и женщин: их можно пересчитать поимённо, на пальцах.
Состояние общественных мнений учитывалось едва ли ни во всех прелиминариях к готовящейся схватке. Король распоряжался сухопутными и морскими силами, всеми своим военными начальниками и приверженцами. Монарх держал в руках механизм исполнительной власти полноценный и, верно, неодолимый, при условии работоспособности этой машинерии. Но аристократия, священники, сквайры, торговцы, то есть носители английского сознательного бытия, разошлись по двум враждебным станам, вигскому и торийскому; расщепились, следуя воззрениям и темпераментам, на множество второстепенных, неорганизованных фракций. Спасти их могла координация, и координация сработала бы при дальнейшем едином действии из сотен слабо связанных центров. Главная опасность крылась именно в разъединённости. Пока лидеры не умели действовать сообща, но каждый на своём месте, каждый по своей роли, шансы их оставались зыбкими. Объединившись, они должны были затаиться до неизвестного и неопределённого часа; объединившись, они должны были ударить одновременно. Но подготовка подобной, совместной акции означала государственную измену.
Широкий и тайный союз со скудными возможностями для собраний, с плохими коммуникациями, разодранный несогласиями, персональными и территориальными, легко мог обернуться несчастьем для конспираторов. Среди заговорщиков, почти до самого исхода дела, усматриваются две мощные политические группировки, каждая со своей весомой правдой. Умеренные, партия Галифакса и Ноттингема, настаивали на неторопливой осторожности, уповая на раскол Кабинета. Сандерленд, Годольфин, Дартмут стремились обуздать в короле своевольство. Если не удастся пусть себе молится, да лоб расшибёт! Конспиративное объединение утверждали они - чревато чудовищной карой, так что стоит выбрать любой, но иной способ действий; они говорили, что не надо давать повода к обвинению в измене; что преждевременный призыв к оружию категорически неразумен; что три года назад был Седжмур, и все помнят, как исполняют свой долг солдаты действующей армии, когда видят перед собой врага. Спешить только портить.
Умеренным оппонировала партия действия, шедшая за непреклонным Денби. Он, первым из высокопоставленных лиц, безоговорочно пригласил в Англию Вильгельма с иностранной армией. За Денби стояли лидеры вигов: Шрусбери, Девоншир, несколько других. Они настаивали, что время работает на короля; говорили, что Иаков уже вызвал войска из Ирландии; что католики овладевают армией; что верхнюю палату разбавят прокоролевскими лордами, а нижнюю ждёт тенденциозный подбор коммонеров; и, что важнее всего, - от фанатика на троне нельзя ждать ни послабления, ни реформ. Единственная надежда для страны дисциплинированная протестантская армия. Они торопились и уже весной 1688 года пошли на отчаянный шаг, пригласив Вильгельма высадиться, и оккупировать Англию. Принц Оранский ответил, что придёт, если в должный момент получит официальное приглашение от ведущих деятелей английского государства, и обещал подготовиться к сентябрю. Дальнейшие события сыграли на руку решительным людям партии действия.
С апреля по осень 1688 года, соратники Денби далеко продвинулись в приготовлениях. Они в отмеренных подробностях приоткрыли задуманное на сторону; проинформировали доверенных людей, распределили обязанности. Шла вербовка умеренных. Ноттингему открыли весь план. Сначала он согласился, потом стал опасаться не из трусости и отказался от обещаний. Меру тогдашней конспирации можно понять из дальнейшего: государственные сослуживцы Ноттингема, лидеры великой партии вигов во главе со Шрусбери, решили заручиться молчанием отступника, застрелив его. Призванный Ноттингем подтвердил, что они вправе так поступить.[217] В конечном счёте, взвесив все обстоятельства, конспираторы поверили его клятве. К концу мая заговор широко распространился в обществе. Умышленники разработали детальные планы, и установили многие связи с нужными людьми. Земля полнилась слухами, происходили загадочные визиты и отъезды. Уклончивый, непостижимый для врагов, загадка для потомков Сандерленд слышал о многом, и понимал многое, но далеко не всё разглашал своему суверену. Барильон знал куда меньше, но доносил всё обоим королям-хозяевам. Людовик мрачно смотрел на положение вещей. Иаков слушал вполуха, и шёл прежним курсом, устраивая воинские смотры.
По общему мнению, от армии зависело многое чуть ли ни всё. Если солдаты и офицеры подчинятся приказам и пойдут в бой за короля, в Англии забушует гражданская война с непредсказуемыми последствиями. Но если армия откажется воевать, либо станет уходить от боевых действий под любыми предлогами, великое дело, поставленное теперь на кон, решится бескровно. Можно предположить, хотя тому нет прямых доказательств, что общий дух заговора проник до сердцевины вооружённых сил, и вполне овладел высшими офицерами или овладевал ими по мере политической революционизации общества. Все заговорщики, военные и гражданские, желали - превыше прочего - убрать короля, не прибегая к насилию. Не сомневаемся, что это было и давним желанием Черчилля. Резонно предположить, что цель эта в его глазах - оправдывала любое средство из оставшихся в его власти; а среди этих средств - при должном развитии событий были и личное предательство по отношению к хозяину и действия, что значатся в законе под названиями государственная измена и мятеж. Он втайне совещался с двумя полковниками танжерцев, Кирком и Трелони; с командующим гвардией герцогом Графтоном; с герцогом Ормондом и другими офицерами.
Епископ Бёрнет суммирует историю этих военных конспираций с исчерпывающей ясностью. Вот его запись от 1691 года:
Были проверены [призваны] армейские офицеры, из самых значительных; пришли Черчилль, Кирк, Трелони и Трелони привёл с собой брата, бристольского епископа. Черчилль выступал от имени принца Георга и принцессы Анны; и названные офицеры не затруднились заявить, что выступают от большей части армии, обещая предпринять всё возможное, и вовлечь в дело всех, кого только смогут. Теперь Черчилля подвергают поруганию, говоря о том, что он, как фаворит, перепрыгнул по службе через несколько ступеней; что изначальная любезность к нему короля, имевшего дела с сестрой Черчилля, предоставила последнему хорошее положение; что никто иной не стяжал равного благоволения и не получил лучших выгод. И Черчилля весьма попрекают тем, что его участие в указанном замысле выглядит предательством и неблагодарностью. Но он никогда не выдал принцу ни одного королевского секрета, он никогда не побуждал короля к жестоким мерам, но, наоборот, часто, при каждом разговоре о делах (разговорах, несомненно, нередких) давал королю советы умеренного характера.[218]
Весна распускалась в лето; епископы, генералы, иезуиты и лидеры нонконформистов поглядывали друг на друга в мрачном молчании. И вдруг события пошли вскачь. В конце апреля Иаков зашёл дальше прежнего, выпустив вторую Декларацию о Веротерпимости: аргументированный манифест с королевским обещанием безоговорочно поддерживать всех и многих кто страдает и страдает жестоко от уголовных преследований за веру. Монарх приказал огласить Декларацию во всех церквях. 18 мая семь епископов во главе с примасом, достопочтенным Санкрофтом, воспротивились приказу, усмотрев в нём злоупотребление властью. Клир всей страны подчинился церковным начальникам, и Декларацию огласили с очень немногих кафедр. Церковь, вопреки ожиданиям Иакова, пренебрегла собственной доктриной непротивления, распознав её обоюдоострый смысл, и он, отчаянно оконфуженный и разъярённый непослушанием, потребовал суда над епископами по обвинению в мятеже. Сандерленд не на шутку растревожился, и попытался отговорить короля от вопиющего шага. Министр понял, что от такой искры может случиться взрыв под его собственными ногами. Сам лорд-канцер Джеффрис высказался Кларендону в том смысле, что король зашёл слишком далеко, дав бесстыдное пояснение: Ведь судьи, по большей части, неконтролируемы.[219] Но Иаков настоял: процессу быть; епископы единодушно отказались уплатить залог и стали препровождены в Тауэр.
10 июня, когда епископы готовились предстать перед судом, королева родила сына. Знаменательное событие ошеломило всех; страна оцепенела. До сих пор можно было утешаться мыслью, что тревоги, терзающие английское общество закончатся со смертью короля. За ним на престол восходила Мария, за Марией Анна и с любой из них прекращалась свара католического монарха с протестантской нацией. Итак, миролюбивый народ мог просто обождать, пока тирания, сама по себе, не уйдёт в прошлое. Но теперь наследственная мужская линия католических принцев грозила простереться за горизонт будущего. Перенести такое было невозможно.
Епископов перевезли в Тауэр; последовал двухдневный процесс, оправдательный вердикт Мидлсекского жюри, вынесенный 30 июня, и вулканический взрыв восторга во всех классах английской столицы. Когда обвиняемых везли на барже в крепость, когда их, оправданных, увозили из тюрьмы, на берегах собирались огромные толпы людей; когда епископы шли по улицам, лондонцы толпами падали на колени, прося благословения. Беднейшие горожане грустили и радовались наравне со знатью и цветом столичного общества. Войска из Хаунслоу ликовали наравне с восторженною толпой. Что за ор? - спросил король, уезжая из армейского лагеря, где он как раз оказался с визитом. Пустяки, сир; солдаты радуются оправданию епископов. И вы называете это пустяками? - спросил Иаков. Манифестации катились вслед за новостями, распространяясь по всей стране.
В тот же вечер, под гром пушек и радостные крики толпы, семь вождей партии действия сошлись в городском доме Шрусбери. Там и тогда они составили, подписали, и отправили знаменитое письмо Вильгельму. Подписи поставили Шрусбери, Денби, Рассел, епископ Комптон, Девоншир, Генри Сидни, и Ламли. Комптон, один из этой семёрки, давно и тесно общался с Черчиллем в Кокпите, но Комптон не знал, в какой степени Черчилль вовлечен в дело и что тот знает о заговоре. Шрусбери и Рассел были с Черчиллем накоротке. Пусть не всегда коллеги по службе, эти трое действовали сообща долгие годы.
Письмо перешло в надёжные руки адмирала Герберта, переодевшегося на этот случай простым матросом и поспешило в Гаагу; а авторы рассеялись по острову, чтобы призывать людей на войну с королём. Шрусбери был от роду католик, принял протестантизм в бурном 1681 году и в дальнейшем не отошёл от новой своей веры. Теперь, заложив поместья за 40 000 фунтов, он поехал за море, чтобы встретиться с Вильгельмом и встать на его сторону. Денби взял на себя Йоркшир; Комптон отъехал на Север, чтобы повидаться с сёстрами. Девоншир, наказанный огромным штрафом за оскорбления и угрозы одному адепту двора в стенах королевского дворца, жил, начиная с 1685 года, в мятежной опале в Чатсуорте; теперь он занялся формированием конной части из своих арендаторов. Амбициозный Вильгельм, подстёгнутый рождением наследника, воскликнул: Теперь или никогда! и начал готовить экспедицию.
Черчилль, человек невысокого политического ранга в столице и без особого влияния в провинции, не оставил подписи под письмом; нам неизвестно, подписался бы он, когда бы его пригласили. Мы, впрочем, не сомневаемся, что Черчилль почёл бы честью такое приглашение. Но он, несмотря на второстепенное положение, обращался у центра паутины, и держал больше нитей, нежели иной высокопоставленный персонаж. Он ежедневно наблюдал за сувереном, и знал настроение армии. Он еженощно бывал в малом, обособленном кружке Кокпита. Он одновременно знался со Шрусбери, Расселом, иными людьми решительной партии, был накоротке с Сандерлендом, ключевыми министрами и Галифаксом умеренным, стоящим в стороне деятелем. Он оставался при обыкновенных своих качествах: непроницаемом хладнокровии, простой манере поведения, безошибочной прозорливости.
Рождение малютки-принца, пустившее в ход множество шестерён действия, стало принято со всеобщим скептицизмом искренним либо наигранным. Сначала все удивились поздней беременности королевы. Молельщики и прорицатели, поощряемые католиками, предсказывали появление сына и это уверенное предвиденье откликнулось уверенным убеждением, что дело здесь нечисто. Метельщики чистили улицы от пепла праздничного фейерверка под рассказы о том, как в Сент-Джеймский дворец, тайно, контрабандно, принесли подложное дитя в угольной грелке. По странной непредусмотрительности короля, за родами наблюдали по большей части паписты, жёны папистов, иностранцы. Архиепископа не было как раз в тот день его привезли в Тауэр. Не пригласили и Хайдов, хотя они член Тайного совета, тесть короля, дядя двух принцесс, прежних наследниц имели на то весомые претензии. Не пригласили и голландского посла, особо доверенного человека Вильгельма. Возможно, самым важным обстоятельством стало отсутствие принцессы Анны. Она была в Бате. Черчилли поехали с ней и Сара, безо всяких сомнений, получила достоверный отчёт от оставшейся в столице сестры, по-прежнему прекрасной Френсис теперь графини Тирконнельской.
Высказываются предположения, что дальновидные фавориты Анны нарочно удержали её вдалеке. При этом нисколько не объясняется, как они могли предугадать столь быстрое и преждевременное разрешение от бремени оповещение было дано лишь за двенадцать часов; как можно было заранее предвидеть поднявшиеся затем сомнения? Так или иначе, но обстоятельство отсутствия при родах позволило Анне усвоить умеренно-цинический, хотя и непререкаемый взгляд на событие, преградившее ей путь к трону. Письмо от Анны к сестре, Марии, выдержано в умеренном тоне: Сегодня никто не способен убедить меня в подлинности либо подложности этого ребёнка. Возможно, это наш брат Единицы верят в это, тысячи нет. Что до меня, пока они не предоставят недвусмысленных доказательств я склонна остаться среди усомнившихся. Когда Тайный совет призвал её дать собственноручную присягу в подтверждение законного рождения, Анна отказалась под тем благовидным предлогом, что слово короля куда весомее всех аффидевитов. Вильгельм, получив новость из Англии, осмотрительно распорядился о благодарственном молебне, но вскоре вместе с супругой примкнул к высшей степени удобному и популярному мнению.
Нация нашла опору в истории о ребёнке-самозванце. Английские протестанты искренне разделяли принцип легитимизма, но не желали терпеть папистского наследника; пришлось найти способ избавления от неудобной истины. Люди Англии с их счастливой, врождённой способностью согласовывать факты жизни, законы, нормы морали с общественными интересами соорудили из мифической угольной грелки фундаментальный символ политической веры. Несколько дальнейших беспокойных лет не обошлись без грелки, а потом вопрос утерял всякую практическую значимость.
Черчилль понял, что надвигаются решительные дни, и обновил свою клятву пятнадцатимесячной давности, написав Вильгельму:
4 августа 1688 года. Мистер Сидни расскажет вам о дальнейших моих планах: уверен, что долг перед Богом и страной велит мне сделать именно так. Примите слово, что я в должное время уеду, и передамся в руки вашего величества, где честь моя будет в безопасности. Если у вас есть для меня какое-то дело, прикажите, и я отвечу полным повиновением, потому что твёрдо решил умереть в своей вере, а эта вера, милостью божией, получила в вас могучего и решительного защитника.[220]
Отметим, что автор этого письма офицер действительной службы; что ко времени письма заговор пустил корни; что все видели неизбежность вторжения. Черчилль дал смертельный залог: если бы письмо перехватили, если бы о письме донесли, он поплатился бы жизнью по приговору военного, либо гражданского суда. Знатная семёрка зашифровала своё приглашение ради предосторожности. Но письмо Черчилля, дошедшее до наших дней, написано собственной его рукой, и ушло за его подписью. По-видимому, он пожелал отметиться своей, особенной долей риска среди прочих подателей писем.
И Вильгельм стал держателем залога. Обязательство, данное Черчиллем, могло быть предъявлено к исполнению в совершенно иных обстоятельствах: если бы события пошли иначе, если бы великое предприятие не состоялось, оставшись тайной Оранского, либо его преемника кем бы он ни был. Если бы Иаков II помирился со своим народом и правил весь отведённый ему жизненный срок, письмо это могло бы стать орудием шантажа в руках голландского посла, средством принуждения Черчилля, способом мести. Залог этот остался едва ли ни самым безоглядным делом всей его жизни, и он пошёл на такой залог он, дипломат, человек сдержанный и предусмотрительный. Черчилль пишет Маколей
написал письмо в несколько возвышенном стиле, что, само по себе, безошибочно говорит о совершаемой им подлости, объявив, что решил исполнить долг перед небесами и страной, и что передаёт всю свою честь в руки принца Оранского. Вильгельм - не усомнимся в том - читал эти слова с одной из тех горьких и циничных усмешек, что делали его лицо особо непривлекательным. Не его делом было заботиться о чести других людей; никто, даже и самый твердокаменный казуист не счёл бы, что он поступает незаконно, приглашая, используя, и награждая за услуги дезертиров, к коим он не мог испытывать ничего, кроме презрения.[221]
Итак, возвышенный слог усугубляет проступок; заявление человека в щепетильном положении в положении, на которое он должен был рассчитывать, чтобы пойти на все крайности во имя общественного блага становится тем более позорным оттого, что изложено хорошим слогом. Простое достоинство этих строк говорит само за себя; и мы не думаем, что Вильгельм читал их с одной из тех горьких и циничных усмешек, что делали его лицо особо непривлекательным. Наоборот; должно быть, он чувствовал расположение к англичанину, кто дал ему такие гарантии. Мы знаем, что он в то время любил и восхищался Черчиллем; что у обоих был один взгляд на европейскую политику и религиозные проблемы; что десять лет назад они проводили время за долгими беседами; что оба считали бедою доминирование Франции, и видели одно средство спасения объединённый, возглавленный протестантизм. Мы помним, как живо Вильгельм желал видеть Черчилля послом в Гааге. Мы видели настойчивое желание Черчилля командовать британским контингентом на голландском жаловании. Нет оснований, нет причин, воображать, как физиономия Вильгельма теряет приятность, искажаясь в горькой и циничной усмешке это один лишь плод грязного воображения Маколея. И если Вильгельм как рисует тот же Маколей был мастером государственных дел, ему неминуемо было понять письмо Черчилля, как ценный и обязывающий залог, данный важным человеком в трагический для последнего час. Мы вернёмся к этому эпизоду, когда станем говорить о приписываемой Мальборо переписке с королём Иаковым.
Пора разъяснить роль Сандерленда в тогдашней политической игре. Сам он был сыном истинного Кавалера, Генри Спенсера, убитого при Ньюбури. Мать, Дороти Сидни, даровитая, блестящая дама, принадлежала к одной из знаменитейших семей противоположного политического направления. Так в жилах Сандерленда текли лучшие кавалерские и пуританские крови. Он женился на Анне Дигби из парламентской конюшни. Он, словно нарочно, получил происхождение из самого средоточия, центра английского общества, английской политики; и связи его с двумя партиями были кровными связями. Он никогда не выступал с публичными речами, но интимно сообщался с главными людьми каждого лагеря, всей аристократии. Он, лучше любого иного человека, знал взгляды и наклонности всех знатных фамилий; он был вхож ко всем. Тем самым, его знания и мнения стали бесценными для суверенов, менявшихся на английском престоле. Он голосовал за Билль об Отводе, но вскоре оказался в Кабинете Карла и приобрёл наилучшее благоволение Иакова. Он устранил Хайдов, перещеголяв их в споспешествовании автократическим и папистским планам Иакова. Чтобы войти в лучшее доверие к королю, он стал папистом. Теперь он, де-факто, был премьер-министром. Он поощрял короля к курсу, ведущему в пропасть. Мы встретимся с ним позднее, когда, через два лишь года после революции, Сандерленд станет доверенным конфидентом Вильгельма III, и, едва ли ни на всё царствование Вильгельма останется при власти за кулисами действующих Кабинетов. Удивительная судьба, удивительная способность одолевать пылких ненавистников, брать верх при всех ошибках, предательствах, во всех несчастьях.
К осени 1688 года, Сандерленд был разбит наголову. Он оппонировал Иакову, возражая против второй Декларации о Веротерпимости и суда над епископами. С другой стороны, он усердствовал над тем, чтобы удержать Черчилля от преждевременных решений. Король, подсказывал Сандерленд, готов уже спасти положение решениями последнего часа. Он соберёт свободно избранный парламент, спокойствие! и всё пойдет на лад. Он помогал королю в его губительном курсе, но, преуспевая в том, постоянно отвращал суверена от мыслей ввести в страну французские войска или принять помощь флотом, что так настойчиво предлагал Людовик XIV. Он постоянно нуждался в деньгах, и набивал карманы французским золотом, но оставался в постоянном контакте с Вильгельмом. Итак, можно сказать, что он поощрял хозяина на пути неосмотрительности и бедствий, отвернувшись от короля в конце, и, одновременно, отвергал помощь Франции, что могла бы спасти Иакова. Нет слов, странный характер и поведение этого человека требуют объяснения; и нам говорят, что действия Сандерленда с самого начала были частью заговора по устранению Иакова; или, самое малое, он, к рассматриваемому времени, уже состоял в участниках широкого тайного сговора.
Те, кто придерживаются такого мнения, указывают на изменнические письма жены Сандерленда к её предполагаемому любовнику, Генри Сидни, кто плёл заговор в Гааге в то время когда Сандерленд нёс обязанности главного королевского министра. Определённо, никто более Сандерленда не поспособствовал падению Иакова - разве что сам Иаков. Когда в октябре наступил крах, Сандерленд убежал в Голландию, где нашёл определённо плохой приём. Затем, после ряда действий в 1685-1690 годах его пригласили вернуться обратно, на высокое место при Вильгельме III - указанное обстоятельство говорит о том, что он состоял в сердечных отношениях с Вильгельмом самое меньшее на протяжении всего 1688 года. И если мы отвергаем теорию заговора, то делаем это не потому, что она противоречит фактам. Столь изощрённое и, в огромной степени, бесцельное предательство, чреватое множеством ловушек и опасностей, при том, что существовали иные, выгоднейшие и привлекательнейшие направления действия, никак не может рассматриваться как план или какая либо систематическая совокупность замыслов. В царствования Карла и Иакова, Сандерленд, этот сведущий государственный человек, выказал себя одним из тех опасных созданий, кто, располагая многими умственными способностями, не способны к целенаправленной деятельности; кто беспечны в центре власти, в средоточии событий; для кого суета, кураж, интриги - сам воздух жизни; и чьи метания от одного безумия к другому суть необходимая принадлежность их психики. Взыскующий опыт 1688 года и пришедшие преклонные годы сказались на Сандерленде; и мы увидим его при короле Вильгельме осторожным, медлительным и мудрым советником; кто - вместе со всем светом - сам поражался собственному, замечательному избавлению от всех последствий жестоких для него дней.
В предчувствии грозной для нашего островного люда борьбы, в этом судьботворном преддверии сквозила - как было показано в предыдущей главе - одна, важнейшая интрига весь мир вошёл в канун войны. За морем медлил Вильгельм Оранский. Он приготовил к делу армию и флот Голландии, и теперь ждал, не отводя бдительного взора от военных приготовлений Франции. Англия, с её горестями и буйством оказалась важнейшей фигурой на континентальной шахматной доске. Можно ли отпускать истово протестантскую, рьяно антифранцузскую страну со всеми её обильными ресурсами к нетерпимым галликанам, к выгоде французского преобладания? И отчего этот переход фатальный, противный чувствам и интересам целой нации стал частным делом одной персоны, упрямой до самодурства? Протестантская Европа и протестантская Англия увидели в Вильгельме защитника свободы: он был противник Людовика, враг всеобъёмлющей французской тирании, персона, пришедшая развеять анафемские чары. И Оранский принял опасную ответственность. Он, как афористично выразился Галифакс, увёл Англию из-под носа у Франции.
Что требовалось Оранскому для вторжения? Подготовленные, сосредоточенные для высадки люди и корабли; затем, свобода рук в должном применении вооружённых сил страны. Но французская армия успела сосредоточиться, стояла наготове, могла выступить немедленно, и Вильгельму выпала трудная задача. Он должен был убедить перепуганных князей Германии и взволнованных нидерландских бюргеров, что наилучшим, надёжнейшим ходом в таких обстоятельствах станет отправка голландской армии в Англию, в экспедицию с весьма неопределённым исходом. Великий курфюрст к тому времени скончался, но Фридрих III, сменивший его в апреле, был настроен по-боевому и, подобно отцу, считал Англию желанным приобретением. Он даже передал Вильгельму контингент прусских войск под командованием маршала Шомберга. Другие германские князья выступили солидарно с Пруссией. Большинство деятелей католической Испании ставили политику прежде религиозных соображений, и не противились экспедиции, что должна была свергнуть короля-католика. Колебался один император. Вильгельм не говорил о детронизации, но в императоре поднялись религиозные чувства. Вильгельм предложил снестись с Ватиканом, папа успокоил принципы императора и тот, в конечном счёте, согласился с тем, что экспедиция восстановит согласие в Англии и оторвёт последнюю от Франции. Общее чувство растущей опасности позволило канализировать усилия сторон с разными убеждениями и различными интересами в русле единой, либеральной и дальновидной стратегии.
Затем Вильгельм обратился к Генеральным Штатам: два года назад, они согласились пойти на огромные военные ассигнования: теперь голландские сухопутные войска пришли в боевую готовность, а нидерландский флот получил решительное превосходство над военно-морскими силами Англии. Но Штаты, равно как и правитель страны, действовали с оглядкой на Людовика. Если Франция пойдёт на Нидерланды, стране придётся ответить агрессору всеми наличными силами, предоставив Англию её судьбе. Но в ином случае, если Людовик пойдёт на Рейн, ища славы в Пруссии и Германии, штатгальтер получит от Штатов одобрение, и сумеет исполнить своё сердечное намерение - английское предприятие. Настало ожидание; тем временем, большой флот транспортов с военным снаряжением собрался у острова Тексел под прикрытием голландского флота, а отобранные для вторжения силы стянулись на удобную дислокацию.
Людовик XIV, от чьей инициативы зависело теперь всё, тянул с решением до последнего. Он был готов придти на помощь Иакову, когда бы тот недвусмысленно согласился выступить с Англией на французской стороне в грядущей европейской войне. Два месяца, июль и август, Людовик сулил английскому королю деньги, армию в тридцать тысяч человек, помощь французским флотом. Французский контингент стал бы гарантией верности и послушания английского войска и такая союзническая армия, действуя как единая сила, определённо подавила бы любые покушения на волю суверена. Но Иаков тянул, не принимая французской помощи отчасти из патриотических побуждений, опасаясь за независимость страны; отчасти боясь, что союз с Францией отзовётся народным возмущением. Он послушался Сандерленда и, приняв в расчёт возможную угрозу от внешнего вмешательства, пренебрег грозившей изнутри опасностью для короны. Он всё ещё работал над прежним замыслом, пытаясь решить дело выборами: составить - не мытьём, так катаньем лояльное большинство в Общинах и отменить Тест-Акт. Но объявленный союз с Францией, высадка войск Людовика, переход страны в предвоенное положение совершенно перечёркивали замысел избирательной махинации. Второго сентября Людовик, подстёгиваемый военной ситуацией, понукаемый французскими армиями, что рвались с поводка, решил положить конец промедлению. Французский посол в Гааге передал правительству республики ультиматум: военные приготовления Вильгельма объявлялись угрозой для Франции; Англия и Франция говорилось в документе пребывают в союзе и дружественных отношениях, так что Франция немедленно объявит Нидерландам войну в ответ на любое голландское военное предприятие против Англии.
Резкий шаг Парижа возымел в Гааге и Лондоне эффект противоположного смысла. Генеральные Штаты взъярились на угрозу. Иаков оказался в конфузнейшем положении и публично открестился от всякого союза с Францией, не только оскорбив Людовика, но, паче того, возбудив в нём подозрения. Иаков, в глазах французского короля, действовал вопреки собственным интересам; по-видимому, предполагал Людовик за этим стоит некоторый секрет возможно, тайный союз Иакова с Вильгельмом либо Сандерленда с Генеральными Штатами. Нерешительная, виляющая политика Сент-Джеймского двора возбудила в Гааге подозрение, что Англия как-то связана с Францией; те же наблюдения заставили Париж думать, что Лондон водит шашни с Нидерландами. Так или иначе, жребий стал брошен. Людовик отказался от союза с Лондоном, удовлетворившись уверенной надеждой Англия обессилеет от жестокой гражданской войны, Вильгельм погрязнет в её междоусобице, и островное королевство лишится всякого влияния на европейские дела. Двадцать пятого сентября армии Франции пришли в движение и тронулись но не к голландской границе, а на средний Рейн. Генеральные Штаты убедились в направлении французского удара и дали Вильгельму долгожданное разрешение на десантную операцию. Час Иакова пробил.
Шли осенние дни. На английских островах зрели напряжение и возбуждение, широкий заговор вобрал главную силу нации, и наливался под спудом, вздымая поверхность повседневных дел. Король попробовал доставить из Ирландии несколько полков католического состава, набранных в Тирконелле, но при виде грозных признаков начавшегося возмущения оставил эту затею. Страхи и ненависть во всех общественных классах нашли выражение в оскорбительной, саркастической балладе против ирландцев и папистов. Песня Лиллибулеро, как Типперери в наши времена оказалась на всех устах, у всех на слуху, несла во все сердца тайнописный призыв к войне. Лиллибулеро и Булен-а-ла были паролями ирландцев, когда - в 1641 году - те резали католиков. Нескладные вирши, написанные лордом Уортоном с глубоким пониманием народа, способов коими простые люди мыслят и выражают эмоции не обнаруживали видимой связи ни с Вильгельмом, ни со вторжением, ни с революцией. Но бряцающие звуки произвели впечатление на армию и никто, кроме тех, кто видел это не в состоянии вообразить ничего подобного. Вся армия, весь народ до последнего человека, в городах и деревнях, все пели её беспрерывно. И, должно быть, никогда прежде столь эфемерная вещь не производила такого эффекта.[222] Всякий смотрел на флюгер. Все, в буквальном смысле, ждали у моря погоды. Земля полнилась слухами. Идут ирландцы. Идут французы. Паписты готовят массовое избиение протестантов. Королевство продано Людовику. Действительность зыбка; ничто не внушает доверия. Законы, конституция, церковь всё под угрозой. Однако грядёт избавитель. Он придёт из-за моря, в блистающих доспехах, с армией, ради спасения Англии от папизма и рабства когда подует восточный ветер. Уортонов куплет, где автор имел в виду ирландцев Тирконелля, получил новое, совершенно иное, противоположное содержание.
- Почто нейдут и медлят в бездействии печальном?
- Ждут протестантский ветер! А то б давно отчалили!
Ветер, протестантский ветер овевал сердца людей, раздувая всполохи гнева в яростный шторм. Скоро он задует и над Северным Морем!
Леро, леро, лиллибулеро!
Лиллибулеро, булен-а-ла!
- пели в те дни солдаты и крестьяне Англии; пели, бесконечно повторяя - как жаловался впоследствии автор куплетов отходную обманутому владетелю трёх королевств.
В те дни Кабинетом руководили Сандерленд и Джеффрис. Размах вильгельмовых приготовлений и тревожное состояние английских умов устрашили этих двоих, и они полностью переменились во мнениях. Два министра, оказавшись между опасностями грядущей интервенции и неминуемого восстания в стране, отбросили прежнюю уступчивость и безответственность, и принялись яростно напирать на монарха, требуя перемены политического курса. Они во мгновение ока отбросили мысль о нонконформистском большинстве в Общинах, похоронив все скрупулёзно отточенные планы и предпринятые многотрудные усилия. Парламент должно собрать и без промедления, а королю и правительству придётся смириться с непременным англиканизмом Палат. Необходимо прекратить все агрессивные прокатолические мероприятия и искать согласия с государственной церковью. Советы подобного рода свидетельствуют о великом метании их дали два министра, что слыли доселе несгибаемыми адептами королевской политики, и успели зайти в ней непростительно далеко. Несомненно, что это паническое метание выбило из-под короля всякую твёрдую почву. Он поддался давлению и заполошился сам. Министрам хватило одной недели, чтобы убедить Иакова никакое сопротивление Вильгельму невозможно без опоры на Церковь Англии. А чтобы получить поддержку церкви, надо договориться с епископами. Король должен склониться перед завоевателем а то и бежать.
Третьего октября, на встрече с примасом и большинством епископов страны, Иаков согласился распустить Церковную комиссию, закрыть католические школы, восстановить протестантский совет колледжа Магдалины, дать Акту о Единообразии силу против католиков и диссентёров. Решения безотлагательно провели в жизнь. Иаков пригласил уволенных в отставку лордов-наместников вернуться, и возобновить исполнение обязанностей. Король восстановил права мятежных муниципалитетов. Он попросил епископов не поминать старого, а торийских сквайров занять прежние места в магистратах. Слишком поздно! Недовольство, за долгое время, мало помалу, успело набрать мощные обороты, и вышло из под контроля посеявших ветер. Все поняли, что внезапное, запоздалое раскаяние свидетельствует лишь о слабости правительства в канун надвинувшейся беды. Более того, англичанин тех дней был существом своевольным и несклонным. Как выразился старый тори, сквайр Джон Брамстон, когда его просили вернуться на место, с которого он был прежде изгнан: Некоторые полагают, что джентльмену достаточно и одного пинка в зад.[223] И пусть важнейшие персоны, впечатлённые уступками, рассыпались во многих изъявлениях благодарности и верности; у них не осталось времени для поворота народного настроения, и потоки общественного мнения силились, сливаясь в стремнину.
Несчастный король осознал вдруг, что потерял всё - благодаря прежним советам Сандерленда и в силу собственной недальновидности. В последние дни октября он уволил главного министра за шаткую, нетвёрдую линию в совете. Иаков потерпел неудачу на всех политических курсах, не снискав выгоды ни на одном из них. Он отторг от себя друзей; он дал врагам почву для объединения. Людовик бросил его. Вильгельм стоял на пороге. Папа действовал вместе с революционерами с отвращением к королю бунтующего народа; в угоду единоверцам, кто оказались под ударом по милости Иакова. Помимо Франции, у короля не осталось ни единого друга или доброжелателя во всей Европе; а Франция двигалась прочь от него, к германским границам. Дома, за редкими исключениями, он снискал гнев богатых, именитых и образованных людей по всей стране, не выиграв, взамен, популярности в массах. Он обидел Кавалеров, и не сумел привлечь Круглоголовых. Он отстранил церковь, не сплотив инославцев. Пенн и нонконформистские общества стояли за короля в его попытках отменить законы, противные свободе совести, но в абсолютном большинстве остались ярыми ненавистниками папизма: дальнейшие гонения казались им милее крестоносных католических начинаний. Джентри-католики, чьи беды так язвили королевское сердце, паниковали, оказавшись по милости суверена в бедственном положении. В конечном счёте, судьба отказала Иакову в последнем в смерти на поле, в сражении за собственную, истовую веру. В последние месяцы правления ему пришлось спустить штандарт, отказаться от всего сделанного и задуманного и кончить царствование в тщетных попытках умилостивить этой жертвой взъярённых им же фурий.
Попытка Иакова эмансипировать католиков не нашла оправдания ни у современников, ни у потомков. Возможно, король сумел бы установить между собственными подданными доверительные и товарищеские отношения, когда бы пошёл на войну против французского доминирования вместе с католиками-Габсбургами и князьями-протестантами. Потом, сплотив страну, он смог бы существенно смягчить действие Тест-Акта, либо, при удаче, вовсе отменить его. Если бы он позволил несравненному солдату, человеку с давно известными и проверенными способностями, драться, и побеждать на Континенте во имя протестантского дела, английский народ отбросил бы страхи и, что вполне возможно, стал бы добрее к единоверцам победоносного и умелого во власти монарха. Но такая гибкость, такое апарте, было выше его разумения и, разумеется, ниже его достоинства. Вместо этого он возбудил движение, что положило антипапизм и историю угольной грелки в основание трона, и обрёк католиков Англии на оковы уголовного закона - на сто пятьдесят будущих лет.
До сих пор, главы этой книги обычно охватывали период в несколько лет; но теперь ход событий стал настолько скор, что две следующие главы расскажут о событиях одного неполного месяца.
19 октября Вильгельм вышел в море. Он испросил у Генеральных Штатов разрешение на отлучку в речи, повергшей в слёзы всех амстердаммеров.
С тех пор он призвал в свидетели Бога как ему доверили блюсти народное благополучие, он никогда не желал ничего несовместного с их интересами. И если он ошибался, то человеку свойственно ошибаться. В своём нынешнем предприятии он полагается на Провидение; но если с ним случится беда, он оставляет им память о себе, родную страну и свою супругу, принцессу, кто любит их страну как собственное отечество. Последняя его мысль будет о них и о ней.[224]
Маленькая армия Оранского стала микрокосмом протестантской Европы: с ним вышли голландцы, шведы, датчане, пруссаки, англичане, шотландцы и отчаявшийся, но крепкий в вере отряд гугенотов - французы, кто не имели больше собственной страны; войска взошли на полутысячу транспортов, и пошли под эскортом чуть ли ни всего военного флота Нидерландов шестидесяти кораблей. Флагман вёл английский контр-адмирал Герберт, а принц Оранский поднял на нём свои цвета и английский флаг, изобразив на нём собственный девиз - Клянусь защищать - со следующим добавлением: протестантскую веру и свободы Англии. Он выполнил обещание, и выполнил его хорошо. Далримпл пишет, с какими чувствами голландцы провожали внушительный экспедиционный отряд, отходящий от родного берега:
некоторым льстило величие родной республики; иные тревожились, понимая, что стране, с одной стороны, грозят стародавние тираны, а с другой армии иностранных наёмников, но границы теперь обнажены; тревожились, зная, что Вильгельм отобрал, и увозит всю крепостную артиллерию; что в гавани остались всего несколько кораблей; что вся сила республики ушла пытать военной удачи в лютость зимнего моря, в ярость штормов и ветра.[225]
Жестокий шторм разбросал флот, и отогнал корабли обратно, к портам Голландии. Один, чрезмерно загруженный транспорт по меньшей мере четыре пехотные роты прибился к английскому берегу, и стал захвачен. Затем в Лондоне сопоставили число солдат на захваченном судне с общим числом кораблей Вильгельма, и прикинули размер неприятельской армии, получив воображаемую, завышенную в четыре раза оценку. Вообразили и другое: штормы отбросили и истребили весь десант. Иаков углядел в том перст Провидения. В несколько этих дней сказал он, получив за обедом новость Господь явил нам всякие чудеса и это ничуть не удивительно. Затем, уверившись, что могущество божие и святая церковь пребывают со своим верным сыном, и станут уничтожать всех его врагов и впредь, Иаков уволил первого министра - Сандерленда за проявленное малодушие. Но новый государственный секретарь, протестант Престон, повторил монарху совет уволенного премьера: созвать парламент, немедленно, без дальнейших задержек и манипуляций.
Но такой шаг стал бы для короля самоубийством. Парламент, созванный при текущем положении дел, никак не ушёл бы от вопроса о прерогативах короны; более того и мрачнее того - он стал бы обсуждать обстоятельства рождения наследника. Тем более что нужда в переменах прошла - по милости божией, вражеский флот развеяло штормом. Разумеется, король отклонил совет Престона. Вслед за тем в отставку подал отчаявшийся лорд-канцлер Джеффрис. К чему стараться воскликнул он с обыкновенным своим богохульством когда Пресвятая Дева устроит всё без нас и самым прекрасным образом.
Читатель вспомнит друга и кузена Черчилля Джорджа Легга, теперь лорда Дартмута. Когда католический адмирал довёл флот до грани жестокого мятежа, отслужив на флагмане торжественную мессу, командование возложили на Дартмута, чтобы он, протестант, лично преданный королю, восстановил дисциплину. Теперь Дартмут лежал в устье Темзы, располагая морскими силами, коих не хватало для того, чтобы остановить голландцев в бою, но, при благоприятном стечении обстоятельств, вполне хватало для обескровливания вражеского флота, обременённого конвоем. Планы Вильгельма и, в значительной мере, судьба Англии, зависела теперь от ветра. Денби, Девоншир и Деламер предприняли все необходимые приготовления к вооружённому восстанию в Иоркшире и Чешире; что до Севера, то там, повсеместно, прошли смотры, обучение и, по возможности, раздача людям оружия.
Лондон отправил значительную часть королевских войск на север страны, предполагая, что именно там высадится Вильгельм. Но ветра решили иначе: Оранский на всех парусах шёл на юг. Третьего ноября он, собирая разбросанный флот, встал на якорь в Дуврском проливе, на виду густонаселённых берегов Англии и Франции. Ветер, нёсший корабли Вильгельма, не дал Дартмуту какими бы ни были лояльность и дисциплина его матросов и капитанов - выйти из Темзы и выстроить хоть какой-то боевой порядок. Английский флот, ожидаемым образом, промедлил из-за нерасположенности к делу, по причине неприятельского превосходства, в связи с очень скверной погодой. Дартмут всё же пошёл в погоню, но с опозданием и протестантский ветер один для преследователя и преследуемого вынудил англичан, добравшихся до Портленда, укрыться в Спитхеде, и отбросил попытавшегося переменить курс Вильгельма назад, к Торбею. И пятого ноября Оранский высадился в Торбее, на берегах Девона. Карстэрс, шотландский богослов, испытавший испанский сапог и дыбу до бегства в Голландию, напомнил ему, что день этот давно и радостно ведом английскому народу, как памятная дата раскрытия Порохового заговора; и Вильгельм сказал бывшему с ним Бёрнету: И что вы теперь думаете о предопределении?
Иаков, поначалу, не слишком встревожился новостью. Он счёл за благо, что вторжение пало на западные графства, а не на Йоркшир. Король надеялся запереть Вильгельма на западе, прервав ему морские коммуникации. Войска, отправленные в Йоркшир, перенаправили на юг; сбор королевской армии назначили в Солсбери. Тем временем, Вильгельм обосновался в Эксетере, и ждал, когда к нему стянутся сторонники. За десять дней не пришёл никто. Денби ждал Оранского в Йоркшире. Западные графства усвоили урок Седжмура, и никак не подготовились к восстанию. Явная апатия сторонников обескуражила Вильгельма, он начал подозревать предательство. Но затем один за другим к нему стали прибывать знатные люди Англии, а сэр Эдвард Сеймур организовал союз сторонников Оранского. Ещё до высадки Иаков успел в значительной мере обесценить декларацию Вильгельма, устранив большую часть перечисленных там обид, так что претензии свелись к одному только пункту: созыву свободно избранного парламента. Но Иаков объявил, что не станет созывать парламент, пока в стране стоит вражеская иностранная армия, контролируя сотню парламентских голосов; и уехал из Лондона в Виндзор, подальше от столичного населения, что давило на него, пытаясь исторгнуть удовлетворение требований. Пока стояло затишье, король, как и прежде, полагался на свою армию но здесь приспело переменившее всё событие. К нему мы и обратимся.
Обе партии; каждое из пришедших и прошедших с тех времён поколений, осаждают репутацию Черчилля яростными упрёками, возлагая на него одного всё стыдное, что только можно найти в удивительной истории избавления от общей, тягостной беды. И в этих упрёках сквозит очевидная умственная сумятица. Никто не сомневается в крепости религиозных убеждений Джона Черчилля и в мудрости его политического предвиденья. Никто не оспаривает его долгой преданности господину; все знают, как ясно, неоднократно и не скрываясь, он заявлял о своей позиции. Немногие рискнут отстаивать то мнение, что личная привязанность к королю оправдывает пренебрежение собственной совестью и интересами родной страны. Всякий отвергнет то предположение, что Черчилль истовый протестант, решительный противник французского доминирования в Европе, приверженец как это станет известно из дальнейшего - наших законов и конституции должен был употребить свои дарования и свой меч для решения кровавой задачи, для принудительного обращения сограждан в папизм, для установления в Англии деспотизма французского образца, французским оружием, во французских интересах.
Отсюда следует, что Черчилль был вправе уйти от короля. Остаётся один вопрос: когда и как он должен был уйти? Возможно, после первого письма Вильгельму Оранскому, то есть в мае 1687? Определённо, нет: в те дни дальнейший, описанный выше ход событий, совсем не был предопределён. На короля напирали отовсюду, все круги общества и он мог уступить давлению. Он мог дать задний ход. На деле, он так и сделал. Возможно, Черчилль должен был оставить Иакова после второго письма Вильгельму, в августе 1688? Но к этому времени он узнал от Сандерленда о неминуемом изменении политики; о том, что против господина решительно выступили самые своекорыстные, строптивые прежде министры; об очень возможном созыве нового парламента, избранного без новшеств, на прежний манер. Возможно, он должен был уйти с королевской службы, лишившись всех постов, назначений, удалиться в деревню или, если придётся, в тюрьму в конце октября, когда Иаков уволил Сандерленда и отозвал указы о созыве свободного парламента? Но к этому времени Вильгельм уже вышел в море, поверив торжественным письменным обещаниям первейших англичан а Черчилль откровеннее прочих - дал Оранскому самые недвусмысленные обещания итак, в конце октября Вильгельм, призванный английскими нобльменами, решился и начал опасное дело. А затем, в ноябре 1688 года мог ли Черчилль устраниться от дела, отъять фактор своей персоны от хода приспевших, важнейших событий, оставить без помощи Вильгельма, поверившего его клятве? Если согласиться с таким мнением, вероломство во вред принципам оказывается меньшим грехом, нежели нелояльность в гармонии с собственными убеждениями. Побег от ответственности то же предательство, но в иной, подлейшей форме.
Он попал в ужасное положение не по своей вине, не по глупости, не после неверного поступка, не из-за упущений по службе, но из-за нежелания поступиться принципами. И даже в таком положении он рассуждал и действовал с умом и хладнокровием, чтобы общество, по возможности, ушло от страданий и опасностей; чтобы страна и он сам вышли из дела с пользой. Более того, наказания за мятеж и заговор чрезвычайно суровы, так что втянутым в них приходится опасаться не лишь за себя, но за всё своё окружение, за все обязанности перед близкими, и делать ставку, уверившись в успехе лучше всего, в бескровном успехе со всяким обдумыванием, при всех предосторожностях. Соблазнитель, подобный Монмуту, кто ведёт посторонних и близких на дурацкое предприятие, на гибель, не найдёт никакого оправдания. Итак, Черчилль должен был довести дело до конца, исполнить обязательства и выбрать шаги, вернее всего ведущие к победе.
В наступившее, беспокойное время Иакову было не с руки держать командующим француза, Февершема, персону едко осмеянную лондонскими памфлетистами и после Седжмура во всех гарнизонах. У короля служил брат Февершема, умелый французский генерал Рой. Иаков собрался вверить ему главное командование. Но Рой успел пожить в Англии достаточно, чтобы понять, с каким сильным и негативным чувством армия относится к французам и французской опеке; Рой вполне оценил обстановку, и отказался от назначения, отговорившись тем, что не сумеет командовать, не зная ни слова по-английски. Командующим остался Февершем, и это неимоверно подняло значение Черчилля теперь его надо было держать при королевском штабе почти на любых условиях. Во мнении не слишком дисциплинированных профессиональных солдат того времени, в глазах бравого и надменного офицерского сообщества, Черчилль стоял наособицу и выше всех ведущих английских генералов. Солдаты - и тому много примеров - имеют привычку полагаться на вождя, кто олицетворяет для них идеал воина, и повинуются такому командиру в критические моменты. Теперь пришёл час, когда настроение войска решало всё. А единственным способом поднять настроение солдат и, что важнее, офицеров, и повести армию в бой за короля была иллюзия, воображение, что лучший боец английской крови отдаёт или разрабатывает боевые приказы. Должно быть, страхи Иакова перед Седжмуром - тогда король, опасаясь Черчилля, обошёл его назначением - вернулись к монарху в куда как мрачнейшем сгущении, но что оставалось Иакову? Итак, 7 ноября король произвёл Черчилля в генерал-лейтенанты, назначил командиром бригады дивизии, в сегодняшних терминах - и направил в армию, что собиралась около Солсбери,.
Черчилль никак не мог почесть новое звание вкупе с должностью за проявление монаршего расположения. Многообещающая оценка его военного веса в поднявшейся борьбе за престол пришлась на время, когда все патенты на чин казались сомнительными бумагами. Новое назначение не навлекло новых обязательств. Ему дали важное, но второстепенное место в военном совете; он получил право голоса при принятии решений, но никак не руководил армией ни на деле, ни номинально. Его пригласили подавать мнение; король обратился к его влиянию и авторитету. Его обременили ответственностью за национальное дело. Но король нашёл подлинную опору в двух французах - те были нечувствительны к потрясавшим Англию страстям, и Иаков мог надеяться на их верность, что бы ни творили английские его подданные. А Черчилль, выставленный напоказ нации, оставался, одновременно, под надзором и контролем. Вероятно, король и не смог бы выдумать лучше в сложившихся обстоятельствах.
По мере хода драматических дней для страны открывались разные альтернативы, многие пути к общественному мировому соглашению. Когда королевская штаб-квартира прибыла в Солсбери, всякий увидел, что при господствующем в войсках настроении никакое сражение невозможно; с другой стороны, состояние королевской армии и армии вторжения вполне способствовало переговорам Иакова с Вильгельмом - как и случилось впоследствии. До сих пор никто из заговорщиков не настаивал на детронизации Иакова, а Вильгельм тщательно маскировал свои притязания. Маленькая, крепкая армия Оранского была лишь остриём копья британской решимости. Он с пятнадцатью тысячами солдат никак не мог покорить шесть миллионов английского народа. Он был констебль, появившийся среди беспорядка. Он был бессилен без общественной поддержки и без подмоги от крепких, верно настроенных горожан. Вполне возможно, что переговоры сторон на уровне главных лиц закончились бы соглашением. Иаков мог остаться на троне как ограниченный монарх, с разрешением молиться по-своему но приватно и с некоторыми обязательствами: повиноваться парламентским институтам, не пытаться менять протестантские основания страны; Англия - как часть Аугсбургской лиги воевала бы при этом с Францией. Возможно, его бы принудили выбирать между протестантским воспитанием сына и отъятием у наследника права на трон. Затем, речь могла идти о регентстве с Вильгельмом - палатным мэром и бессильным Иаковом, почитаемым за короля в меровингском смысле, а трон, после смерти Иакова, наследовали бы его дочери протестантки, Мария и Анна. Ко времени отъезда Иакова из Лондона, все эти пути оставались открытыми.
Обескураживающие новости настигли короля, едва тот доехал до Виндзора. Лорд Корнбери, старший сын лорда Кларендона, офицер королевских драгун оказался на несколько часов временным командующим солсберийской армии. Объявив, что получил приказы о немедленном рейде против передовых частей Вильгельма, он вышел с тремя конными полками, и прошёл шестьдесят миль к Аксминстеру, откуда, после краткого отдыха, двинулся на Хонитон, делая вид, что ежеминутно ожидает нападения неприятеля. Молодой Бервик - тот ехал из Портсмута в Солсбери, чтобы присоединиться к армии - заподозрил неладное в движении Корнбери и немедленно пошёл за ним с другими воинскими частями: поступок неординарный, ведь Бервику тогда было всего лишь восемнадцать лет.
На деле, Корнбери намеревался отвести три полка к претенденту. Вильгельм, оценив обстановку, взял три полка Корнбери в подвижное кольцо окружения, чтобы разоружить либо, при удаче, присоединить эти силы. Но королевские офицеры, озадаченные длинными маршами и очевидной неразумностью операции, потребовали точных приказов. Корнбери решил, что его вывели на чистую воду, и ускакал к Вильгельму с двумя сотнями человек; остатки бригады с трудом избежали ловушки, куда их вёл командующий.
Уход Корнбери стал первым ударом в последовавшей ошеломительной череде неприятностей, убедивших Иакова в том, что он более не может полагаться на армию. Инцидент, впрочем, стал обоюдоострым. Пусть Корнбери и дезертировал, его офицеры и солдаты недвусмысленно выказали бдительную верность, так что военная измена осталась без последствий. Никто не мог поручиться ни за одного из офицеров королевской армии. Определённым казалось только одно: если офицеры сохранят верность, армия пойдёт в бой и, скорее всего, победит.
Тот факт, что Корнбери был накоротке со своей кузиной, принцессой Анной, и постоянно бывал в Кокпите; факт, что по ходу странных военных приготовлений молодой офицер получил главное командование в Солсбери и остался командующим на несколько критическим часов; факт, что став командующим он решился на отчаянное дело всё это говорит о заговоре с участием высших армейских чинов и, прежде всего, Черчилля. Тому нет доказательств, но так вполне могло быть. Мы можем с уверенностью утверждать, что Черчилль хотел обеспечить Вильгельму преимущество без боя не положил ли он начало этому плану эпизодом с Корнбери?
18 ноября принцесса Анна послала Вильгельму письмо, набросок которого был, с очевидностью, заготовлен заранее:[226]
Кокпит, 18 ноября.
При всяком удобном случае я непременно давала вам и моей сестре всевозможные уверения в искреннейшей дружбе и добрых чувствах к вам обоим, так что, надеюсь, мне не стоит повторять уверения подобного рода; что до того, о чём вы теперь написали мне, не стану докучать вам многими комплиментами, но в немногих словах уверю в том, что искренне желаю вам наилучшего успеха в предпринятом благородном деле, и надеюсь, что принц [то есть муж Анны, принц Георг Датский] скоро будет с вами; тогда вы сами увидите его готовность действовать на вашей стороне, и он, я уверена, окажет вам всякую службу, какая окажется ему по силам. Вчера он уехал с королём в Солсбери, намереваясь отправиться оттуда к вам, как только друзья его решат, что настало должное время. Сама я пока не знаю, останусь ли здесь или переберусь в Сити; здесь я полагаюсь на советы моих друзей; но где бы я ни оказалась, вы всегда найдёте во мне самую преданную сторонницу, в чём я всегда и с готовностью поклянусь.
17 ноября король отправился из Виндзора в Солсбери, к армии. Он ехал на войну в странной компании. Половина свиты решилась покинуть его другая половина клятвенно пообещала уйти от Иакова. Некоторые много месяцев тому назад вошли в тесный заговор с претендентом. Зять короля, принц датский Георг дал недвусмысленное согласие на переезд в должный момент - принцессы Анны из Лондона в лагерь Вильгельма. Нелояльность насквозь источила собственную королевскую гвардию. Племянник Иакова, герцог Графтон, и чуть ли ни все способные офицеры последнего, командиры надёжнейших прежде частей ожидали одного только удобного случая для перехода к Вильгельму. Они совершенно решились на дезертирство, осталось улучить время и найти способ. Монарх мог положиться лишь на своих католиков и французских агентов. Всего за три коротких года ярые деятели Седжмура, люди подобные Кирку и Трелони стали врагами Иакова. Королю аплодировали со всех сторон, все стороны отдавали ему церемониальные почести, со всех сторон шли искренние изъявления почтения и уважения и всюду на всех сторонах коренился непримиримый заговор, ставший общественным служением.
Среди королевской партии скакал Черчилль. Он был уверен в себе как никто в окружении Иакова, этот свеженазначенный генерал-лейтенант. Всё было задолго обдумано и решено, обещания даны, план выстроен. Конечно же, все обнаруженные впоследствии свидетельства этого плана стали предметом строжайших порицаний. Мастерская, тщательно подготовленная работа вызывает восхищение когда речь идёт о Бленхейме и отторжение, когда дело касается столь же необходимого для страны заговора. В Лондоне осталась Сара с инструкциями касательно принцессы Анны; и Черчилль был уверен, что жена тщательно исполнит его предписания. На флоте во главе ежедневно множащейся группы морских офицеров вёл работу его брат, Джордж, готовясь передать флот и, лично, свой корабль Ньюкасл - Вильгельму. Сам Черчилль действовал заодно с решительными союзниками, знатнейшими и самыми высокопоставленными деятелями страны. Все - каждый на своём месте ежедневно исполняли дело, страшное последствиями возможного провала; каждый рисковал головой, очагом и кровом. Крах, изгнание, эшафот такой была входная ставка в затеянной политической игре. И ставки эти были брошены на сукно, без права снять их со стола. Бесповоротно! Неумолимо, безжалостно, безысходно!
В дни кризиса королевской судьбы, размер армии Иакова не уступал кромвелевой в пору наибольшей мощи последнего. На жаловании короны состояли сорок тысяч солдат; королевский приказ двинул их к Солсбери, против голландского завоевателя. Но шотландские войска около четырёх тысяч успели дойти лишь до Карлайля, а основная масса трёхтысячного ирландского контингента только до Честера; не менее семи тысяч солдат пришлось оставить в Лондоне, для защиты столицы. Девятнадцатого ноября, в день прибытия короля к армии, у Солсбери собрались двадцать пять тысяч солдат, вдвое больше чем в экспедиционном корпусе Вильгельма. Никогда прежде Англия не видала такой концентрации обученных, регулярных военнослужащих. Что им предстояло делать?
Этот вопрос занял умы всех начальников в королевской штаб-квартире и в войсках. Армия собралась со многими досадными промедлениями, задержками, заминками. Король и Черчилль всматривались друг в друга: суверен со сдержанной мольбою, слуга с видом непроницаемо-мрачным; оба, пользуясь всеми возможными каналами, пытались понять настроение армии. Король с двумя его французскими генералами и непременным спутником послом Франции находили, что дух армии шаток и неясен. Черчилль и собравшиеся около него командиры были обескуражены положением дел. Большинство офицеров выказывали явное недовольство. Командиры-протестанты замкнулись в себе, и очевидно страдали. Однако папистские военные начальники и их люди остались убеждёнными лоялистами; никто не мог поручиться за то, что протестантские солдаты откажутся идти на иностранного врага или иностранного освободителя когда и если их возьмут под строгое управление. Части, что должны были стать несомненной опорой короля оказались, на деле, самыми ненадёжными. Офицеры и солдаты гвардии, драгун и кавалерии дворцовая элита армии усвоили лондонские настроения, были готовы рискнуть в политической игре, и говорили языком неприкрытого мятежа. Но основная масса линейных войск, пусть это были и протестанты, остались верны мундиру и дисциплине.
Следующие четыре тревожных, гнетущих дня прошли в смотрах, инспекциях, совещаниях. На 21 ноября король назначил поездку в передовые части прикрытия, пехотные и кавалерийские, стоявшие под началом Кирка у Уорминстера. Но напряжение, павшее в последние дни на несчастливого монарха, отозвалось безостановочным носовым кровотечением. Король стал негоден к седлу. Впоследствии он объяснял свой недуг особой расположенностью Провидения, кто единственно спасло его от рук Черчилля и Кирка с последующей передачей Вильгельму. Бервик повторяет его заявления в Мемуарах, называя их особо примечательными обстоятельствами.[227] Якобитские писаки и памфлетисты раздули эти примечательные обстоятельства до цареубийственного заговора Черчилля и Кирка - сам Черчилль, как они уверяют нас, намеревался заколоть венценосца в его карете.
Но кто бы и что бы ни говорил о морали Черчилля, никто не отрицает его хладнокровия, в особенности там, где затронуты его интересы. Если бы он убил короля Иакова, путь Вильгельма к трону пошёл бы через нарочито кровавые казни преступников, упокоивших его возлюбленного тестя. И чем суровее стали бы эти казни, тем лучше бы стала поддержка, посредством коей Оранский надеялся преуспеть. Итак, Вильгельм должен был бы мстить всеми известными закону способами за преступление, чрезвычайно выгодное ему самому: вот простой, но веский довод в опровержение инсинуации, не принятой даже Маколеем, и выдумка эта должна упокоиться в ветошной куче якобитских фальшивок.
Равным образом мы отвергнем и голословное утверждение о том, что Черчилль вынашивал план доставки короля в руки Вильгельма. Разбирая одну за другой эти клеветы, удобнее всего аргументировать, встав на позицию самих заинтересованных сторон. Вильгельм никак не желал заполучить в свои руки Иакова. Ничто не могло бы вернее отвратить от Оранского общественные симпатии и признание, нежели новость о том, что он захватил или выкрал короля, и держит его в пленниках. Если бы такое случилось, все требовавшие свободного парламента общественные силы стали бы требовать и свободного короля. Вильгельм, искусный и умелый государственный деятель, действовал в прекрасно ведомой и ему и его английским сторонникам атмосфере общественного настроения, и никогда не допустил бы подобной ошибки, а Черчилль, кто знал положение ещё лучше Вильгельма, стал бы последним человеком, решившимся на такое неразумие.
Стоит добавить, что сам Черчилль пустился в опровержения, едва услышав о таком обвинении. В дневнике Кларендона указано:[228]
3 декабря 1688 года. В обеденной зале [у Бервика, около Хиндона][229] встретил моего лорда Черчилля. Я рассказал его сиятельству, как король говорил перед лордами о том, что Черчилль задумал похитить его величество в Уорминстере и передать принцу Оранскому. Черчилль опроверг это со многими возмущениями, говоря, что он отдал бы жизнь, защищая короля; что он всегда был благодарен королю, и никогда не покинул бы его, когда бы не увидел, что наша религия и страна оказались под угрозой уничтожения.
Естественно, что люди, непоправимо пострадавшие от Черчилля, когда тот бежал, покинув своего суверена и благодетеля, должны были - что совершенно естественно - обрушить на дезертира именно такие клеветы.
И лишь в одном отношении Черчилль оказался забавно неразумен. Кажется, он временно отбросил свою обыкновенную сдержанность. Он, непроницаемый лицемер, как то болтают якобиты, стал вдруг человеком неосмотрительным. Во всех его действиях, в поведении засквозили безрассудство, дерзость, легкомыслие: удивительные - и, насколько мы понимаем, - неповторимые во всей его дальнейшей жизни. Он, как рассказывают якобиты распускал язык в Гайд-парке, на армейском смотре и открыто надсмехался надо всем предприятием.[230] Его поведение заметили; о нём доложили. Когда в Виндзор пришла новость о дезертирстве лорда Корнбери, он, Сандерленд и Годольфин стали застигнуты врасплох за прогулкой; они шли рука об руку, разражаясь порывами самой отчаянной радости.[231] На ужине 20-го числа, он с герцогом Графтоном, Ормондом и другими убеждал только прибывшего полковника Королевских ирландцев и герцога Нортумберлендского из гвардейской кавалерии перейти к революционерам, безоглядно к той очевидности, что если те не поддадутся на уговоры - а они не поддались - о разговоре этом будет доложено - и, разумеется, было доложено. Иаков, собрав высших офицеров, призвал к их лояльности. Черчилль и прочие повторили обычные уверения, но затем и немедленно отправили к Февершему депутацию, чтобы уверить командующего в том, что они, люди верно служащие королю, не поступятся убеждениями, и не станут воевать против принца, пришедшего с единственной целью: охранить созыв свободного парламента, будущего защитника наших религии и свобод. Якобитские писатели заявляют, что Черчилль стал первым, кто поклялся защищать короля до последней капли крови. Слова эти находят подтверждение в собственных письмах и разговорах Мальборо, но эти же материалы объясняют, что он имел в виду защиту самой королевской персоны, но не королевской власти, и уж совсем не королевской политики. Подобного рода эквилибр был тогда делом обычным и необходимым. Это примета того жестокого времени. Англичане всех сословий и партий объединились в категорическом отказе от верноподданничества. И те, кто подобно Черчиллю, стояли рядом с королём, прежде чем покинули его, не имели иного выбора. Нечасто политический заговор маскируется столь же лукавой личиной. В последней своей фазе он более выглядел как раздоры министров, нежели как замысел против суверена.
Остались записи, что на том же собрании король, призвав к офицерам, предложил в конце следующее: те, кто не желают верно служить ему, могут свободно уйти.
Кому охоты нет сражаться, может
Уйти домой; получит он и пропуск
И на дорогу кроны в кошелек.[232]
Но предложение короля не могло иметь практических последствий. Кто усомниться в том, что если бы Черчилль или иные люди поднялись бы из-за стола совета, сказав: Я принимаю предложение вашего величества и ухожу теперь домой или, по другому выбору ухожу в армию принца Оранского; кто усомнится в том, что такие люди не смогли бы свободно уйти с заседания в королевском присутствии; и вовсе не исключено, что им пришлось бы пробиваться силой.
Иаков, осаждаемый предупреждениями от многих, обдумывал арест Черчилля. Февершем молил его об этом на коленях, в сильных выражениях. Обсуждалось заключение Черчилля в портсмутскую тюрьму. Но решиться на такое было непросто. Черчилля привлекли делу в угоду войскам. Новость о его аресте стала бы не менее вредоносной, нежели весть о его дезертирстве. Армия испытала бы не меньший шок. Под подозрение попали многие, очень многие: близкие, сокровенные, проверенные в долгой верности, всегда надёжные люди и несчастный суверен не понимал, с кого начать и где остановиться. По всему узкому кружку папистов, ирландцев, французов, что собрались теперь около короля шли шепотки, люди опускали взоры, осмеливались глядеть с пренебрежением и даже враждебно. Иаков сомневался, медлил, и отложил вопрос до утра.
Нет нужды заниматься анализом мучительных переживаний Черчилля. Лорд Уолсли предоставил свету душераздирающую картину моральных и эмоциональных терзаний нашего героя в ночь 23 ноября, когда тот окончательно утвердился в решимости уйти от Иакова: как он, должно быть, метался между долгом протестанта и долгом службы, неотъемлемо слитым с привязанностью к господину и покровителю. Но все эти хорошо объяснимые - усилия благожелательного биографа выстроены на песке. Я показал, что всё случившееся задумывалось и продумывалось загодя, задолго. Не могло быть никакого взвешивания, колебаний в выборе стороны. Трудным было одно - понять, когда ситуация не допускает промедления. Теперь разрешилась и эта трудность. Всё было решено и обдумано политическая линия, планы действия; все приготовления завершены. Само же бегство не стало для Черчилля ни трудным, ни взыскующим испытанием. Всё просто пришёл час.
Военный совет собрался вечером 23 ноября. Когда спросили мнение Черчилля, тот, поддержанный Графтоном, предложил наступать на врага, в то время как Февершем и Рой стояли за отступление. Король принял сторону Февершема. По мнению Маколея, дальнейшие действия Черчилля обусловлены обидой на то, что совет его стал отринут вкупе с пониманием того, что произошло это единственно из-за недоверия к намерениям самого Черчилля. Но такого быть не могло. Черчилль вполне мог дать здравый совет, исходя из военных соображений. Во многих эпизодах его жизни мы наблюдаем такую же, забавную двойственность поступков: кажется, что Черчилль колеблется, пытаясь скорректировать общий план с учётом текущей обстановки. Можно предложить равно убедительные объяснения: Черчилль заранее знал, что будет принят иной курс и поэтому не лукавил в совете; возможно, что он говорил искренне, чтобы удобнее исполнить дальнейшие замыслы. По мере наступления армии он приближался к расположению Вильгельма; две женщины его заботы, жена и принцесса Анна, выигрывали дополнительное время для безопасного бегства; сокращалась и дистанция его собственного, последнего броска. С другой стороны, при отходе армия рассредоточивалась, верные и неверные полки расходились порознь, и враги могли взять Черчилля под арест без прежних затруднений. Все эти подспудные материи угадываются во взаимоотношениях ключевых оппонентов, могут быть выведены при рассуждении о сути главных вопросов.
Мы уверены, что Черчилль оставался с армией до последнего, насколько хватило отваги а отваги хватило надолго. Но вечером 23 ноября, когда военный совет подошёл к завершению, он убедился в провале военного заговора; он решил, что английские командиры не способны прийти к королю со словами от имени армии: Вы должны начать переговоры с Вильгельмом, вы обязаны созвать свободный парламент. До сих пор они, делая всё возможное, пытались влиять на войска, но лишь поставили себя в опаснейшее положение, не добившись решительного результата. Выбора не было; оставалось бегство с ближними подчинёнными и сподвижниками.
Итак, в ту же ночь Черчилль, герцог Графтон и полковник Беркли с четырьмя сотнями солдат при офицерах оседлали коней и ускакали из лагеря, направившись к Солсбери. Через несколько времени, 24 ноября, пройдя пятьдесят миль, они достигли Крюкерна города в двенадцати милях до главной квартиры Вильгельма в Аксминстере.[233] Уходя, Черчилль оставил королю письмо:
Сир,
Когда люди действуют вопреки собственным интересам, от них трудно ожидать искренности, так что не предполагаю, что всё почтение к Вашему Величеству, выказанное мною в скверные времена (верно, что я получал взамен чрезмерную благодарность при незначительной службе) сможет склонить вас к милосердию в отношении моих действий; но, тем не менее, надеюсь, что великие блага, полученные мною от Вашего Величества признаюсь, что не мог и мечтать о таком, при разных изменениях в правительстве станут аргументом и откроют Вашему Величеству и всему миру мой резон: я, повинуясь высшему принципу, вынужден совершить насилие над собственными склонностями, интересами и покинуть Ваше Величество в дни, когда дела ваши требуют покорного повиновения от всех ваших подданных; и более всего от меня - человека, так многим обязанного Вашему Величеству. Это, сир, ничто иное, как неумолимые требования моей совести, очевидная тревога за мою религию (неоспоримая для любого благочестивого человека) и воспрепятствовать таким приказам не может ничто. Богу ведомо, что я держался до сих пор лишь личной верностью к Вашему Величеству, вопреки всем тем несчастным планам неосмотрительных и своекорыстных людей, что были устроены против истинных интересов Вашего Величества и Протестантской веры; но с притворством покончено, я не могу дольше оставаться с теми, кто готов пустить эти планы в ход и ухожу, рискуя всей жизнью и имуществом (по большей части дарами Вашего Величества) тщась отстоять вашу королевскую персону и законные права, со всем живейшими беспокойством, почтением и преданностью, как то приличествует, сир, вернейшему, наиблагодарнейшему подданному и слуге Вашего Величества,
Черчилль.[234]
В бумагах Бленхейма письмо это нашлось обёрнутым в лист другого послания королю от принца датского Георга; принц, несомненно, написал Иакову в то же время и по наущению Черчилля. Но Георг, покинувший тестя вместе с Ормондом на следующий за Черчиллем день, высказывается шире, распространяя мнение за пределы острова, ставшего ему домом; и мы впервые видим, как много значила широкая протестантская коалиция для людей Кокпита.
Теперь, когда неугомонный дух врагов реформированной религии пишет принц нашёл опору в беспощадном рвении и военном господстве Франции; когда все протестантские владетели христианского мира встревожились, объединились и идут на громадные издержки ради общего дела, я не могу остаться в стороне от их славного предприятия и стать выродком из-за одного лишь заблуждения Вашего Величества, из-за вашего нежелания поддержать законы и учредить должное правительство, найдя в них единственное, естественное основание для собственного благополучия и поддержав тем протестантскую веру всей Европы.
Я уверен, что эти слова выражают искренние убеждения и автора, достойного принца, и самого Черчилля. Иаков преследовал две, вообще говоря, независимые цели: он желал спасти англичан, возвратив их в лоно истинной веры и привести страну к определённо установленному абсолютизму; это был его идеал, но вместе с тем английского короля привлекал и манил альянс с великим королём Франции направленный на истребление протестантизма во всей Европе. Возможно, что слуга его, не уступая суверену ни в глубине мысли, ни в размахе мечтаний лелеял иной практический план. Джон Черчилль видел, как Британия восходит над Европой, и, пользуясь помощью Вильгельма, опрокидывает и разбивает насильное доминирование Франции. Он видел себя слугою Голландца буде необходимо либо слугою протестантской принцессы; военачальником, кто станет бить гордого европейского владыку во главе протестантских армий. Возможно, что уже в те, ранние времена, он умел увидеть, как на руинах французского великолепия встаёт британское величие; как оно ширится, распространяясь по всему миру, как становится формой будущего устройства для всего человечества.
Приезд Черчилля в Аксминстер принёс Вильгельму величайшее облегчение. И поражение и победа в сражении стали бы равно опаснейшими для голландца исходами. Чтобы закрепиться на троне, он был обязан избежать кровопролития, не обижать англичан поражением от иноземной армии. Он встретил нового приверженца со всеми официальными почестями и наилучшим образом использовал его услуги.
В Жизни короля Иакова II написано, что когда Черчилль прибыл в ставку Вильгельма, маршал Шомберг встретил его замечанием: что, насколько он знает, это первый случай дезертирства генерал-лейтенанта. Но воззвание Вильгельма к армии гласит:
Мы равным образом надеемся, что вы не станете терзаться угрызениями ложных Понятий о Чести, но поставите на первое место долг перед Господом Всемогущим и вашей Верой, вашей Страной, самим собою и вашим Потомством: пред тем, что вы, как Человек Чести, обязаны ставить превыше всех собственных Соображений и Обязательств, какими бы они ни были.
Мы можем легко понять якобитов в изгнании, вставивших вышесказанную насмешку в уста Шомберга, но нам кажется невероятным, что конфидент, первый военный заместитель Вильгельма, повинен в столь несвоевременном, несообразном с критическими положением дел афронте. Помимо прочего, сам Шомберг, в схожих для протестантского дела обстоятельствах переменил сторону не как генерал-лейтенант, но как маршал Франции, и, как никто рисковал получить в ответ упрёк того же рода.[235]
Нельзя утверждать с уверенностью, что после исхода очень многих и очень важных офицеров армия короля потеряла боеспособность. Если, как предлагал Февершем, войска подверглись бы тщательной чистке, а освободившиеся вакансии заняли бы сержанты; если на ключевые позиции встали бы католики и французы; если король сам повёл бы солдат в бой, дело стало бы чрезвычайно жестоким и кровавым. Но сначала ушёл Черчилль; за ним последовали королевские родственники и ближайшие слуги Иакова; тогда король пал духом. Он отчаялся, увидев, что не сумел удержать даже Черчилля, близкого человека, наперсника, кто прослужил при нём около четверти века. Он обессилел душевно, и думал теперь лишь о том, как отослать жену и сына во Францию, не опоздав отправиться вслед за ними. Этот факт и сопутствующие ему личные обстоятельства делают бегство Черчилля в Солсбери при всей вынужденности и неизбежности этого поступка самым дерзновенным и мучительным эпизодом его жизни.
Теперь мятеж поднялся по всей стране. Денби встал с оружием в Йоркшире; Девоншир в Дерби; Деламер в Чешире. Лорд Батский передал Вильгельму город Плимут. Адмирал Бинг, оставив капитанов под командой Дартмута, прибыл в ставку вторжения и доложил, что флот и Портсмут находятся отныне в распоряжении Вильгельма. Город за городом поднимали восстание. Знать спешила приветствовать восходящее солнце. Нация отвергла Иакова в едином, добровольном содрогании.
Пробил час и для жён. Анна и Сара не намеревались дожидаться возвращения разъярённого короля. Иаков выслал приказы на обыск обеих домов Черчилля и на арест Сары. Принцесса упросила королеву об отсрочке последнего из приказов до утра, а ночью две дамы бежали из Кокпита.
Этот разумный шаг находит объяснение в двух теориях: первая говорит о естественной панике; вторая - о задолго продуманном плане. Сара в своих записках рисует принцессу в панических настроениях. Она скорее выбросилась бы из окна, чем решилась бы встретиться со своим отцом. Но звучит это неубедительно. Анна знала о собственной, личной безопасности; она боялась за свою любимую миссис Фримен, на кою, определённо, падала вся тяжесть королевского гнева. Нельзя сказать с уверенностью, что именно заставило Анну покинуть дворец и искать защиты в Сити: бежала ли она от наступившего кризиса; пыталась ли выехать к мужу, в лагерь Вильгельма. Но средства к бегству были подготовлены заранее: деревянная лестница, сооружённая за шесть недель до описываемых событий между комнатами Анны и Сары, обеспечила обитателям Кокпита путь для безопасного бегства. Лондонский епископ поселился неподалёку в тайном убежище; с ним, в постоянном контакте оставался лорд Дорсет, человек романтической натуры, увлёкшийся порученной ролью. И когда за подтвердившимися сведениями о бегстве принца Георга последовали приказы об аресте Сары, две дамы использовали заранее подготовленные пути. Глухой ночью они спустились по деревянной лестнице к ожидавшим лондонскому епископу и лорду Дорсету, продрались сквозь топь Пэлл-Мэлл (Сара потеряла в уличной грязи туфлю) до Чаринг-Кросса, а оттуда, уже на карете, добрались до Олдерсгейтской резиденции епископа. Они остановились там на краткий отдых и к рассвету добрались до Копт Холла, великолепной резиденции Дорсета в сердце Эппинг-Фореста. Когда побег открылся, леди Кларендон и служанка Анны подняли ужасный шум, крича о том, что принцессу похитили, возможно паписты с целью убийства, так что королева и её слуги с немалыми трудами успокоили собственных гвардейцев. Поиск беглянок ничего не дал, и когда, в полдень наступившего дня несчастный король въехал в Уайтхол, ему осталось лишь безнадёжно воскликнуть: Господи-боже! Меня бросили и родные дети![236]
Принцесса и Сара, не теряя времени, отправились из Копт Холла в Ноттингем. Епископ, избавившись от священнического облачения, сопровождал их со шпагой, пистолетом, как подлинное воплощение святого заступника, спустившегося на землю. В Ноттингеме во всеоружии стоял Девоншир, распоряжаясь отрядом в тысячу конных - вельможами и джентри Дербишира. Повстанцы приняли принцессу с королевскими почестями, восхищением; горожане горячо приветствовали беглянку. Организовали импровизированный двор; устроили банкет. Слуг не было, так что гостей обслуживали волонтёры-драгуны; один из них, Колли Сибер, поэт и драматург, оставил нам свои впечатления о встрече с Сарой - настолько живые и привлекательные, что нам просто необходимо включить их в это повествование.
Мы провели всего лишь несколько дней в Ноттингеме, когда услышали, что принц Датский с некоторыми важными персонами, ушёл от короля к принцу Оранскому; и что принцесса Анна, опасаясь, после мятежа супруга, негодования отца, ушла ночью из Лондона и теперь в полудне пути от Ноттингема; тем же утром пришли и неожиданные, тревожные новости: преследователи, две тысячи королевских драгун, дышат беглянке в затылок, намереваясь пленить её и увезти в Лондон. Но эта тревога, на поверку, оказалась лишь военной хитростью, частью всеобщего запугивания, что шло по многим другим местам королевства в те самые дни; частью плана, призванного поднять и объединить людей для солидарной обороны; тогда же были пущены слухи, что повсюду и поблизости идут ирландцы, вырезая всех протестантов, что попадаются им в руки. По объявленной тревоге войска наши скучились к оружию, и выстроились в порядки, насколько позволял обуявший всех страх; и, прошагав каких-то несколько миль по Лондонской дороге, встретили принцессу, в карете, в сопровождении одних лишь леди Черчилль (теперь вдовствующей герцогини Мальборо), и леди Фитцхардинг, коих и препроводили в Ноттингем под восторги народа. В тот же вечер все вельможи и иные достойные персоны, вставшие под ружьё, сочли за честь прислуживать за столом её королевского высочества, сервировав ужин (равно как и устроив покои принцессы) заботами и средствами лорда Девоншира.
Я стал свидетелем того удивительного и доныне памятного празднества; вельмож за столом собралось столько, что торжеству потребовались дополнительные прислужники из тех, кто не носят ливрей; и я был хорошо известен в семье лорда Девоншира, так что метрдотель его сиятельства пригласил меня помочь у стола. Мне достался пост у места леди Черчилль, я должен был исполнять её просьбы. И раз я оказался так близко у стола, вы, разумеется, вправе спросить меня: что я услышал там, какие велись разговоры; и я с удовольствием ответил бы вам, удержи в памяти что-нибудь помимо пророненных тогда двух слов, и слова эти: Немного вина и воды. Я помню лишь эти слова среди всего услышанного, ибо шли они от прекрасной гостьи, коей я имел удовольствие служить. Немногие звуки; а в остальном я весь обратился в зрение, и по ходу всего празднества не находил лучшего удовольствия, кроме как украдкою, время от времени, глядеть, наслаждаясь прелестью так близкой от меня персоны. И если она так лучилась красотою, так поражала грацией, если я глядел на неё с чувством отчасти нежнейшим, нежели то диктуется самым глубоким почтением, зачем мне стесняться в этом отчасти нескромном воспоминании; подобная красота, словно солнце, должна временами лишаться права выбора и греть равным теплом крестьянина и придворного. ... Но если таковые нахально самонадеянные мысли и завелись во мне тогда, при первом созерцании этих красот, отчего я не могу надеяться на прощение теперь, имея к предъявлению то полновесное оправдание, что я сохранил эти мысли в благопристойном секрете на пятьдесят полных лет?[237]
Не стоит и думать, что Маколей хоть как-то затруднился с осуждением любого поступка Черчилля, что бы тот не предпринимал. Он, этот вигский историк, разумеется, пылко пристрастен к революции. Он говорит о короле Иакове:
Каждый министр, осмелившийся поднять голос в пользу гражданских и церковных законов королевства, тотчас попадал в немилость. Всецело лояльный парламент дерзнул - мягко и почтительно - высказаться против нарушения основных законов Англии, получил жёсткую отповедь, стал отправлен на каникулы и распущен. Судья за судьёю лишались мантий за то, что отказывались выносить решения вопреки всем писаным и неписаным законам. Почтеннейшие Кавалеры, не желавшие идти против гражданских свобод, отстранялись от всякого участия в местных управлениях своих графств. Десятки священников лишились средств к существованию за приверженность присяге. Прелаты, чья стойкая верность оставила за королём корону, что теперь венчала его, молили - стоя на коленях - не принуждать их к нарушению законов Бога и законов родной страны. Умеренная их петиция стала сочтена бунтарскими клеветами. Их запугивали, им угрожали, сажали в тюрьмы, предъявляли иски; они едва ушли от полного разорения. И тогда весь народ понял, что права его придавлены силой, что любые мольбы считаются преступлением, и начал думать о том, как решить дело войною.[238]
Но когда на тот же неотвратимый вызов откликнулся Черчилль, когда он начал действовать так, чтобы помочь общему делу без расточения английской крови, Маколей осуждает его со всей отточенной риторикой, с расчётливым презрением - на то он мастер. Теперь восстание становится изменой. А обвинённый в измене становится вероломцем. Девятнадцать из двадцати англичан, как нас уверяют, были такими же предателями. И, судя по всему, это почти всеобщее предательство бесчестит одного лишь человека. Всем прочим Маколей отыскивает оправдания; более того, он их славит. Напуганный монарх просит епископов о помощи, готов удовлетворить всякую их просьбу, но те отказывают ему даже и в заявлении против посягателя. Прекрасный дух в епископах! Полк спрашивают - готовы ли солдаты драться во исполнение Тест-Актов: и полк в ответ бросает оружие. Патриотические чувства в войсках! Иаков винит епископа Комптона в том, что тот подписал приглашение Вильгельму, и епископ уходит от прямой лжи мастерской увёрткой. Сир - говорит он - я совершенно уверен в том, что всякий из моих братьев виновен в этом деле в равной со мною мере. На следующий день, когда все прочие отпёрлись от обвинения, король задал епископу тот же вопрос. Сир - ответил Комптон - я дал вам ответ вчера. Гениальная уловка - пишет Маколей. Епископ парировал вопрос с искусством, достойным иезуита. Как мудро!
Денби осаждает Йорк. Он распространяет слухи о том, что паписты (в окрестностях едва ли нашёлся бы хотя бы один папист) на ногах, и режут протестантов, а потом поскакал на спасение города во главе сотни конников с криками Нет папизму! Свободный парламент! За веру протестантскую! И, действуя на волне паники, обезоружил гарнизон и поместил коменданта под арест. И что это было? Восстание, заговор, лживая пропаганда, тёмные, расчётливые делишки? Нет, объясняет Маколей. Денби действовал с редкой находчивостью. Наскочить на мирный город, заранее запугав мирных жителей постыдной фальшивкой о смертельной опасности; разоружить верных офицеров и защитников короля - это трактуется как редкая находчивость.
Пэры, кто за прошедшие полгода дюжинами входили в заговор, интриговали, готовились к вооружённому восстанию против Иакова - все они приносили присягу на верность, когда получали кресла в верхней палате. Но здесь Маколей показывает нам, как ничтожны формальные обязательства перед требованиями гражданского долга. Он приглашает нас восхититься поведением клятвопреступных лордов. Они стремились ко благу Англии и всякие педантические соображения совести не стали им помехой. Лорды-наместники были личными представителями короля, с особой ответственностью, верность их имела особое значение. И как храбро, как бестрепетно, с каким гражданским воодушевлением, в каком множестве они дезертировали, бросали короля Иакова, когда совершенно выяснилось, чья берёт верх! Присяга тайного советника куда торжественнее и подробнее даже и клятвы лорда-наместника. И Маколей венчает мишурными венцами чело каждого из тайных советников, поработавших над свержением и изгнанием Иакова.
И похвалы эти всеобщи - за одним лишь исключением. Для Черчилля постыдно любое сопротивление королю Иакову. Он негодяй - нет, он единственный негодяй во всей Англии! - потому что не пошёл сразу же к Иакову, не пал на колени и не объявил: Я не согласен с вашим величеством, а значит я предатель, казните меня смертию! То, что для иных тяжкий, но святой долг; защита гражданских и религиозных свобод безотносительно к личным и партийным узам, становится, в случае Черчилля, самым бесчестным обманом во всём семнадцатом столетии. Иные - говорят нам - вздёрнули во всеобщем порыве британские плечи, сбросив невыносимые тяжести и беды, но он повергся в самую бездну личного позора. То, что для всех остальных верное, спасительное поведение в великом кризисе, становится чёрным заговором в случае Черчилля. И пусть благодаря действиям Черчилля Англия не истекла английской кровью - это всё равно, он здесь единственный изменник. Событие славное: метод бесчестен. Исход дела необходим для свободы Британии: способ, уверяют нас, постыдно пятнает Черчилля. Неизбежная революция обошлась без мук гражданской войны и радость, облегчение народное звучат через века; и здесь же мы слышим эхо порицаний в адрес одного человека, чьи действия - и действия единственно возможные - стали для страны столь великим благом.
Иаков собрал оставшихся в Лондоне пэров, членов Тайного совета, и получил от них следующую рекомендацию: вступить в переговоры с принцем Оранским, одновременно объявив амнистию всем перебежчикам. Королевскими переговорщиками стали назначены Галифакс, Ноттингем и Годольфин. Монарх не знал, что двое из них, Ноттингем и Годольфин, посвящены в план Вильгельма. Но ни эти двое, ни третий, Галифакс, не знали, что король не собирается вести переговоры, а только выигрывает время, чтобы отослать жену и сына заграницу, и уехать за ними следом. Вильгельм, со своей стороны не спешил; переговорщики прождали охранных грамот неделю с лишком, и лишь затем попали в ставку претендента, переехавшую теперь в Хангерфорд. Тем временем Иаков отправил инфанта в Портсмут с приказом Дартмуту немедленно отвезти младенца во Францию. Дартмут, при всей его лояльности, отказался: он заявил, что, выполнив фатальное распоряжение, станет изменником Вашему Величеству и преступит известные законы королевства. По этой причине, сир - писал он из Спитхеда 3 декабря - коленопреклонённо прошу прощения, и умоляю вас обратиться к иным советникам; ведь то, что задумано, выглядит совсем уж безнадёжным шагом, столь безнадёжным, что грозит не лишь воодушевить ваших врагов, но привести в уныние ваших друзей и народ, коих я не стану отчаивать, но останусь рядом с вами, охраняя персону и права вашего законного наследника... Молю вас, сир, обдумать и дальнейшее, важное последствие: если принц станет отослан во Францию, есть ли иная перспектива кроме нескончаемой войны против вашего народа и будущих поколений; у Франции появиться непреходящее искушение напасть, более того - завоевать Англию, чего не дай мне Бог увидеть...[239]
Но Иаков был неудержим в бегстве. Крошку-принца вернули из Портсмута; 9 декабря, ночью, королева в сопровождении малого эскорта из двух человек, графа Лозена и Рива, итальянского джентльмена, бежала вместе с ребёнком в Грейвсенд а оттуда во Францию. Как только король узнал о безопасном избавлении жены и сына, он приготовился ехать за ними следом. Предприняв старательные меры, чтобы обмануть двор и советников, Иаков прокрался из дворца в ночь на 11 декабря, пересёк реку и что есть мочи помчался к побережью. Он тщился погрузить страну в хаос. Он бросил Большую печать в Темзу; отдал Февершему приказ о роспуске армии; велел Дартмуту идти в ирландские порты, взяв с собой всё, что сможет из флота. Дартмут, искренне уязвлённый дезертирством господина, передал флот в распоряжение Вильгельма. Но Февершем с редкой безнравственностью разбросал солдат среди населения, оставив их без жалования, но при оружии. Страну объял великий страх. Королевские переговорщики поняли, что одурачены Иаковым. Ширились дикие слухи о неизбежной резне, о подходящих ирландцах. Лондонская толпа грабила иностранные посольства, каждый встал с оружием за свой дом и очаг. Столица погрузилась в кромешные панику и насилие, надолго запомнившиеся под именем Ирландская ночь. Назревал коллапс гражданского правительства, но дело спасли решительные действия оставшихся в Лондоне советников. Они с трудом, но остановили возмущение и, признав власть Вильгельма, молили его поскорее идти на Лондон.
Однако, на следующий день, в заседание Совета пришёл бедный крестьянин с жалобным письмом от бежавшего короля. Иаков успел подняться на борт судна, но упустил прилив, был пойман, схвачен, избит и доставлен на берег рыбаками и горожанами Фавершама они сочли его удирающим иезуитом. Дальнейшее коротко, но хорошо описано у Эйлсбери, кто, сам того не желая дал упущенную историками картину произошедшего. Прежде, Эйлсбери, не жалея сил, пытался отговорить Иакова от бегства; теперь, когда безначальный Совет узнал о поимке беглеца на побережье, он высказался первым в совете, и, прервав затянувшееся молчание обескураженных нобльменов, предложил вернуть короля на положенное место. Совет поручил это дело самому Эйлсбери и тот сначала в карете, а потом на коне помчался вызволять своего господина из рук ширнесской толпы. Коронованный пленник принял избавителя надменно. Высокие сапоги помешали Эйлсбери преклонить колени перед высочайшим лицом, он смог лишь изобразить некоторый книксен. Иаков, небритый, полуголодный, окружённый и загнанный местными рыбаками и горожанами так запирают в загон злого бычка но непоколебленный в королевских правах, высказался в сторону гонца: Ха! В Лондоне, без меня, они все теперь короли. Верному Эйлсбери пришлось проделать трудный путь - через возмущённые волнением, объятые паникой города Кента; по стране, охваченной мятежными беспорядками; найдя такой приём, он по собственным словам Эйлсбери ответил королю в совсем незамысловатых словах, и монарх любезно соизволил к ним прислушаться. Затем Эйлсбери занялся делами собрал кое-какое продовольствие; велел испечь наилучший, по мере возможности, хлеб; и попросил короля почтить присутствием торжественный, в его честь, обед. Его Величество выказал удовольствие; на убогую квартиру пришли люди из местной знати; высокую честь отобедать с королём снискали некоторые до крайности поражённые происходящим представители простонародья, а Эйлсбери, верный постельничий монарха, оставшись в высоких ботфортах, прислуживал суверену на коленях (опираясь на стол); так стал восстановлен церемониал и общественная гармония. За сутки в Фавершеме собрались некоторые фрагменты разрушенного королевского хозяйства. В полдень прибыл парикмахер, с гардеробом и камердинерами; сразу после них повар. Контора гофмаршала добралась в сумерках; обслуга и лошади королевской конюшни ночью; отряд лейб-гвардии доложил о прибытии с утра. Так стал восстановлен двор вернее, остов двора.
Эйлсбери не отходил от господина ни на шаг. Он распорядился, чтобы сотня лейб-гвардейцев выстроились в одну шеренгу, воодушевляя короля молодецкими приветствиями. Он убедил Иакова возвратиться через Сити, и жители столицы, потрясённые и сбитые с толку ужасным известием о бегстве монарха, встретили его возвращение с облегчением и даже энтузиазмом. Он проследовал с королём в Уайтхол, откуда, по приказу Вильгельма, короля препроводили вниз по реке, в Рочестер под эскортом голландских гвардейцев. Эйлсбери отправился с Иаковом, разделив с ним ужас опаснейшего броска по сходням при быстро подступающем приливе. Благополучно справившись с трудностями, королевская компания устроила дружный пикник на воде, и король отправил голландскому капитану, командиру конвойной флотилии, вино и угощение.
Эйлсбери остановился с королём в Рочестере, и с прежним пылом старался удержать монарха от переезда на Континент. Но возвращение короля причинило Вильгельму большое неудобство, он с нетерпением ждал следующего побега и пытался ускорить дело, распространяя слухи о готовящемся цареубийстве. Иаков не боялся физической гибели он был ветеран боёв на земле и на море, читатель знает об этом но до смерти перепугался наступившей обособленности: вокруг бушевало враждебное настроение, едва ли ни все, на кого полагался монарх предали или покинули его. Несчастный человек замкнулся на несколько дней в болезненном молчании, а потом вышел к реке с чёрного хода (принц Оранский принял все меры, чтобы там не оказалось охраны) и преуспел во втором побеге, навсегда расставшись с английской землёй. Мы знаем из так называемых мемуаров Иакова, что тот ожидал заключения в Тауэре откуда короли уходят лишь в могилу, и бежал от такого ужасного конца, побуждаемый чувством неисполненного святого долга.
Неразумный внук Генриха Наварского бежал; современники сочли его падение и бегство позором, но история вернула Иакову II достоинство чести. Наследственность, фатализм, присущее Стюартам неистовое упрямство, ярое религиозное чувство, убеждённый патриотизм в сочетании со взглядами всё это, объединившись в одном человеке, привело его к несчастью. Он был приговорён происхождением, положением, чертами характера. Недвижимо прочные воззрения короля на судьбу страны никак не вязались с эффективной внешней политикой. Католические убеждения сделали Иакова упрямой аномалией на протестантском троне. Он, одновременно, оказался способным администратором и провальным политиком; человеком добродетельных принципов и порочной практики; персонажем, равно уважаемым и отвратительным. Аура королевского достоинства и чести сопутствовала Иакову в пожизненном изгнании; таким он и останется в людской памяти.
Днём 23 декабря Вильгельм, узнав о бегстве короля, осознал себя неоспоримым хозяином Англии в неопределённой пока форме - и, не теряя времени, начал дело, во имя которого пришёл из-за моря. Французский посол получил сутки на отъезд с острова, и Англия примкнула к широкой антифранцузской коалиции.
Итак, Оранский принц стал господином новой своей страны де-факто, но без законного основания. Революционная хунта своею властью созвала конвенционный парламент, и депутаты охотно занялись академическими прениями в скоро вернувшемся после устранения общей угрозы - противоборстве вигов и тори. Свободен ли трон? Станет ли он занят либо останется вакантным? На каких договорённостях теперешний король и народ скинули Иакова? Что значит бегство последнего отречение или всего лишь дезертирство? Может ли парламент низложить короля? И что дальше: должен ли Вильгельм стать регентом и править от имени дезертира с почившей репутацией? Должна ли Мария стать царствующей королевой, и что тому помеха ведь корона, по фактическому состоянию дел, перешла именно к ней? Или Вильгельм должен править единолично? Или вместе с Марией? А если Мария умрёт, кто ей наследует Анна? Либо Вильгельм останется править один, до конца своих дней? Обе палаты, две партии и церковь занялись этими вопросами с живейшим интересом и без всякой поспешности.
Вильгельм, с самого начала боролся за единоличное обладание английской короной. До побега Иакова, ему было угодно любое решение, переводившее Англию на сторону антифранцузской коалиции; теперь для полного удовлетворения собственной амбиции Оранского не осталось никаких препятствий. Годом раньше Бёрнет снискал признательность Вильгельма, уговорив Марию стать соправительницей мужа, когда она наследует отцовский трон. Теперь штатгальтер метил выше. Прежде всего, он объявил, что не станет регентом и не намерен править от имени и против воли низложенного короля, тем более что готовится - и непременно будет - воевать с последним. Я сказал Вильгельм пришёл сюда не для того, чтобы возрождать республику и мне ни к чему пост венецианского дожа.[240] Иначе он предпочтёт вернуться в Нидерланды. Права Марии защищал Денби Вильгельм высадился не в Йоркшире, а в другом месте, так что Денби не удалось сыграть выдающейся роли в революции; теперь он, обиженный этим обстоятельством, настаивал на короне для Марии. Вильгельм ответил Денби, что не станет церемонимейстером при собственной жене и, действуя через своего наперсника, Бентинка, стал домогаться высокой цели единоличного правления и никак не места консорта. Бёрнет нашёл в этом некоторую несправедливость для Марии. Общество, узнав о готовящемся умалении законных и природных прав королевы, разразилось в широком негодовании. Один лишь Галифакс среди всех важных людей поддержал претензии Вильгельма. И новый король потерял в популярности, получив первый отпор от английского общества.
Черчилль лавировал между противоречиями, выбрав промежуточный курс, одновременно благоразумный и независимый. Он, подобно большинству тори, не стал голосовать за детронизацию Иакова, но, вместе с тем, не примкнул к партийному большинству, кто, несмотря на категорический отказ Вильгельма, настаивали на регентстве. Он воздержался при решительном голосовании 29 января, и регентство стало забаллотировано пятьюдесятью одним голосом против сорока девяти. Затем, при вотировании вопроса о дезертирстве либо отречении Иакова, он проголосовал за первую формулировку; но поддержал решение верхней палаты, когда Лорды, уступив Общинам, согласились на совместное правление Вильгельма и Марии. Сара, по наущению мужа, убедила Анну отказаться от права престолонаследования в пользу Оранского в случае, если последний переживёт Марию. Тем самым голландец стал бесспорным и пожизненным венценосцем благодаря важнейшей услуге, оказанной Черчиллем возможно, Вильгельм оценил её выше солсберийского побега, предотвратившего кровопролитие. Но с самого начала, при всём развитии событий, король выказывал к Черчиллям явную холодность. Когда Галифакс посоветовал ему обратиться к лорду Черчиллю, так как тот имеет влияние на принцессу Датскую и может добиться от неё уступки, Вильгельм отрезал: Ни Черчилль, ни его жена не станут вертеть мною, как они вертят принцем и принцессой Датскими. Галифакс, записавший тот разговор, отметил в Вильгельме великую подозрительность к попыткам управлять собою, и добавил: Подобные опасения часто беспокоят высокопоставленных людей. Такое соображение не всегда производили в Вильгельме немедленный эффект, и лорд Черчилль скорее исключение но действовало по ходу долгого времени, как некоторый медленный яд.[241]
Вильгельм принял парламентские условия, ответив отменной благосклонностью. Он утвердил Черчилля в генерал-лейтенантском звании. Он, фактически, дал ему полномочия главнокомандующего, поручив реорганизацию английской армии. Военные знания и организаторские способности Черчилля вполне отвечали этой важной задаче. Шомберг, возглавивший работу по повелению Вильгельма, лаконично отметил для Эйлсбери: Мой лорд Черчилль предложил всё, что я отослал, и его аргументы нашли общее одобрение; а господин Бентинк работает секретарём, оформляя всё в письменном виде.[242] Годом позже, о том же говорят рукописи графа Дартмута: Лорд Черчилль важнейший после маршала Шомберга человек в военных делах. [243] Иные выдержки показывают, что Черчилль не позабыл к тому времени старого друга Легга. Лорд Черчилль успел уведомить принца как полезно держать министра для ведения дел, коими вы занимаетесь.[244] Но вскоре для Дартмута наступили чёрные дни, и он умер в Тауэре. В апреле, во время коронационных торжеств, Черчилль стал графом Мальборо. Третий граф Мальборо пал в морском бою с голландцами в 1655, и этот, благороднейшего происхождения титул, оставался вакантным с 1680 года. Мы можем понять, отчего Черчилль выбрал его себе.
В мае Англия официально объявила Франции войну; лондонские а затем и ирландские дела - не дали Вильгельму удалиться из страны и Мальборо повёл восьмитысячный английский контингент на французов во Фландрии. До сих пор мировой конфликт разгорался исподволь, теперь он полыхнул в полную силу. Французы подобрали нового командира для своей великолепной армии. Им стал Люксембург полководец, кого небезосновательно сравнивали с Конде и Тюрреном. Союзники по коалиции выстроили трёхсотмильный фронт-полумесяц от верхнего Рейна до бельгийского берега. Они имели численное превосходство и могли вести наступление на любом участке. Четыре отдельные армии одновременно, но с неспешным обыкновением тех времён двинулись к французским рубежам. На севере, испанцы и голландцы под началом князя Водемона шли через Бельгию на Кортрейк. Следующим по линии, то есть южнее, между Самброй и Маасом оперировал князь Вальдек с голландцами, шведами и английским контингентом. За Арденнами действовали пруссаки и северные германцы под командованием бранденбургского курфюрста он собрался захватить Бонн, что на Рейне; далее по линии, то есть ещё южнее, даровитый граф Лотарингский вёл имперцев на Майнц. Все перечисленные операции прошли с некоторым, умеренным успехом. Граф взял Майнц и, двинувшись вниз по Рейну, помог курфюрсту захватить Бонн. Князь Водемон овладел Кортрейком, заставив французов отступить на сильные позиции между Лисом и Шельдой. Но заслуга единственного полноценного сражения в том году досталась Вальдеку и его армии, где служили англичане.
Мальборо прибыл на фронт в мае и нашёл английские войска в отвратительном состоянии. Три оставшихся до активных операций месяца оказались очень кстати и прошли в учениях и строевой подготовке. Черчилль добился отличных результатов. Мы располагаем его письмом к мистеру Блэтуэйту, кто оставался на посту военного министра со времён Маастрихта; Мальборо пишет:
Прошу вас постоянно сообщать мне о том, что происходит в Ирландии... Прошу вас, выслать мне копию присяги - той, что берёт со своих офицеров господин Шомберг - присяги о том, что они не станут ни давать, ни брать деньги за свои должности, потому что я намерен ввести такую присягу и здесь.
Он испросил решения Вильгельма насчёт того, нужно ли учить пехотные полки по голландскому образцу, либо на прежний, английский манер.[245] Он прилежно учил солдат; заботился об их жаловании, питании и обмундировании с дотошной хозяйственностью постоянная, отличительная черта его командования и преследовал злоупотребления любого рода. За несколько месяцев, худшие в тридцатитысячной армии Вальдека британские войска стали общепризнанно лучшими.
Князь Вальдек пользовался полным доверием Вильгельма. Для Вальдека, доктринёра военного искусства с многолетним опытом и для большинства современных Вальдеку союзных и противостоящих командиров, война была искусной игрой наподобие игры в шахматы. В этом профессиональном сообществе каждый знал каждого - его гамбиты, игру в защите. И пока игрок не делал серьёзных ошибок, он не рисковал многим, хотя и не мог серьёзно изменить ситуации. Вот укреплённый город его надо взять; вот некоторая, невеликая местность вражеской страны там станут действовать фуражиры. Но если оппонент предпринимал законные контрмеры и скромные завоевания преспокойно меняли хозяина, противостоящие армии начинали делать манёвры, меняя направления с этикетом исполнителей старомодного менуэта. Вальдек, в свои шестьдесят девять лет, умел безошибочно вести именно такую, неторопливую войну. Очень скоро он заметил улучшения в английской армии и расположился к Мальборо.[246] 3 июля он написал Вильгельму, что не может нахвалиться англичанами, и, 26-го: английский контингент в шесть тысяч пехотинцев и пятьсот кавалеристов приведён, в целом, в такой отличный порядок, что я восхищён ими; могу сказать, что старания господина милорда Мальбрука и его полковников дали превосходный результат. 24 августа, перейдя Самбру, Вальдек встал перед маленьким древним городом Валькуром поселением на возвышенности холмистой и лесистой местности. Здесь он остановился, вполне удовлетворившись вторжением во вражеский край, и занялся пополнением припасов, выслав окрест фуражные партии.
Командующий французской армией, маршал дЮмьер, решил ответить на посягательство и с приличествующей заносчивостью пошёл на дерзкого нарушителя. Д'Юмьер, кадровый военачальник с хорошей подготовкой, был, по натуре, человеком весьма раздражительным. Говорили, что он получил назначение радением Лувуа, кто питал нежные чувства к супруге Юмьера. Утром 25 августа[247] маршал напал на фуражные партии и аванпосты Вальдека в двух милях к югу от Валькура. Случилось так, что в это время Мальборо вёл маловажные действия вне города с солдатами 16-го пехотного (теперь Бедфорширдского и Хардфортширского) полка при поддержке трёх сотен голландской кавалерии и драгун. В девять часов пришло донесение о больших силах неприятеля; вскоре выяснилось, что это авангард всей французской армии. Мальборо подал сигнал стрельбою из орудий фуражирам, чтобы те возвращались и в лагерь, чтобы предупредить основные силы. Тем временем, англичане перегородили дорогу французам. Затеялась тяжёлая схватка, но полковник Ходжес удержал позицию, оказав упорное сопротивление. Шестьсот английских пехотинцев задержали натиск французов на два часа. Когда со стороны Вальдека пришло известие, что главные силы готовы, Мальборо скомандовал отход и отступил на возвышенность к востоку от города, где прочие британские войска успели выстроить линию при нескольких батареях. Английский батальон отошёл умело, в полном порядке, в тесном контакте с очень сильной французской кавалерией, впервые предъявив Европе те качества, что со временем и с неохотой признали за английской армией.
Тем временем Вальдек занял Валькур и расположил армию на позициях, главным образом к востоку от города. Все фуражиры вернулись в лагерь, и дЮмьер мог выбирать идти ему в бой или нет. Время было полуденное. Местность совсем не благоприятствовала атаке, но Юмьер, кажется, не успел остыть от яростной стычки на аванпостах и пошёл в бой, не похлопотав о разведке. Он двинул на штурм Валькура сильную пехотную колонну из восьми батальонов французской гвардии. Определённо, такую задачу тяжело было решить без подготовки. Город опоясывали древние укрепления, стены обрушились в нескольких местах. И всё же Валькур расположен на холме и частично прикрыт рекой, а вокруг стояла сильная полевая армия. Так или иначе, французы пошли в яростную атаку и, изрядно потеряв от фланкирующего огня батарей Мальборо, бивших с восточных высот, едва не овладели городом но им помешало своевременное подкрепление два батальона под командованием английского полковника Толлемаша. Французские гвардейцы пытались поджечь городские ворота и бились повсюду с решимостью, но без результата; пятьсот атакующих остались лежать на траве вокруг городских бастионов. Неуспех вынудил дЮмьера расширить фронт атаки. Он сымпровизировал, бросив всю армию на правое, западное от Валькура, крыло союзников. И тогда Вальдек нанёс контрудар. В шесть вечера Слангенберг с голландской пехотой западного крыла пошёл на французов фронтом. Одновременно, Мальборо атаковал от восточной окраины города. Он, во главе лейб-гвардии и синих, при поддержке двух английских полков, ударил по правому флангу французов, навалился и сильно потрепал вражескую пехоту, неразумно измотанную Юмьером. Дело спасла французская кавалерия многочисленная, под отличным командованием Виллара: читатель знает о нём из истории об осаде Маастрихта, случившейся за двадцать лет до Валькура; пройдёт ещё двадцать лет, и мы снова встретимся с Вилларом при Мальплаке. Виллар спас французскую пехоту от полного уничтожения, и Юмьер сумел увести армию в ночной темноте, потеряв шесть орудий и две тысячи отборных французских солдат. Потери союзников ограничились тремя сотнями бойцов, так что дело при Валькуре можно назвать победой. Фекьер, французский военный критик, жёстко замечает: О бое этом можно говорить лишь в одном смысле - так нельзя воевать.[248] Репутация военачальника д'Юмьера безвозвратно пострадала, и в следующей компании его место занял Люксембург.
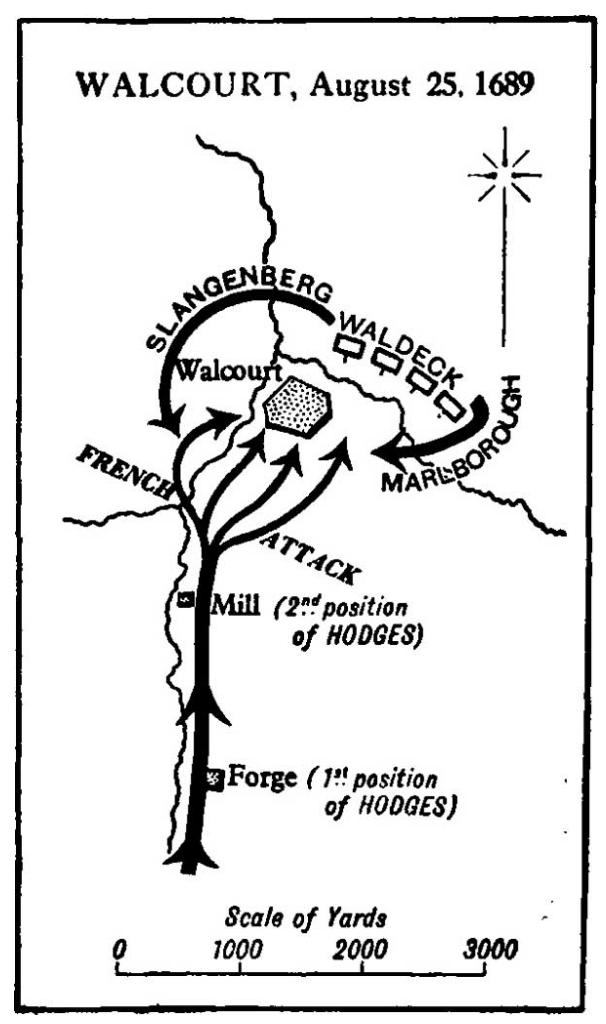
Князь Вальдек, радуясь успеху, благодарно воздал тем, кто обеспечил победу. Все наши войска - писал он Генеральным Штатам - выказали великую храбрость и желание драться; в особенности хорошо показали себя англичане, участвовавшие в этом деле. [249] Он писал Вильгельму: Полковник Ходжес и англичане действовали великолепно, а граф Мальборо отважен как немногие из известных мне людей.[250] Эти комментарии подтверждаются французскими источниками, где в особенности упоминаются лейб-гвардия и два английских батальона под командованием генерал-лейтенанта Мальборо. Затем Вальдек пишет Вильгельму, что: Мальборо, несмотря на юные лета, сражался лучше многих генералов с долгим боевым опытом, и показал отменные военные качества. Возможно, что вальдеково мнение о некоторых недостатках юности не слишком впечатлило Вильгельма, тридцатидевятилетнего одногодка Мальборо. Но он отписал графу в приятных выражениях:
Я доволен поведением моих войск при Валькуре. И главная заслуга этого дела принадлежит вам. Прошу принять мою благодарность; будьте уверены, что за ней последуют другие, более весомые свидетельства моего расположения.[251]
И Мальборо стал полковником Королевских фузилёров; часть эта, вооружённая лёгкими мушкетами, фузеями, использовалась для прикрытия артиллерии. Назначение стало весьма выгодным: полк находился в ведении генерал-фельдцейхмейстера, и Мальборо мог надеяться на некоторую со временем прибыль и достаток в своём, теперь уже графском хозяйстве. Валькур остался единственным значимым успехом англичан и голландцев в 1689 году, так что начало нового царствования оказалось благоприятным для Черчилля.
Лето, однако, омрачилось спором двух королевских семей: Мария и Вильгельм тягались с принцем Датским и принцессой Анной, а вся тяжесть конфликта легла на Черчиллей. До некоторых пор сёстры королевской крови жили в мире и согласии, сплочённые тревогами заговора против отца-монарха. До некоторых пор Сара умела охранить сестринское единство. Марии случилось написать Саре сердечное письмо, его часто перепечатывают. Ваша дружба уравняла нас в привязанности к моей сестре, писала принцесса Оранская 30 сентября 1688 года, и я убеждена, что мы будем неизменно согласны в нашей заботе о ней; уверена, что она и я непременно воздадим вам за доброту, теперь, когда мы вскоре сможем возобновить знакомство. Но всё меняется со временем, иногда с очень недолгим временем. Сара, устроившая своим влиянием на Анну соглашение о порядке престолонаследования в случае смерти Марии прежде Вильгельма, не без оснований говорит о том, что следовала интересу общественного блага, и отрицает нечистое желание мужа и собственное - втереться в доверие к суверену. Но очень скоро встал вопрос о цивильном листе и отсюда пошёл разлад.
Анна добровольно пожертвовала неоспоримым и дорогостоящим правом на обратный переход имущества и, что вполне естественно, пожелала вообще и в особенности на случай сестриной смерти получить независимый доход, пожалованный не лицом, но парламентом. Желание принцессы возмутило Вильгельма, Мария встала на его сторону. Более того, король и королева оценили годовое содержание двора принцессы в 30 000 фунтов, а Вильгельм считал и эту сумму чрезмерной, с удивлением спрашивая у Годольфина, как Анна умудрится потратить так много, хотя - добавляет Сара как то выяснилось впоследствии, некоторые из его фаворитов получали больше. Принимая во внимание, что Анна уже пользовалась 20 000 фунтов пожизненного ежегодного содержания цивильный лист, назначенный ей парламентом обращение Вильгельма с принцессой, кто добровольно отказалась от немалой доли требований к Короне, не кажется образцом великодушия. Обитатели Кокпита постарались неявно довести до парламента и предмет спора, и желательный размер ежегодной выплаты 70 000 фунтов, чтобы оставался простор для уступки. Вскоре выяснилось, что желание принцессы находит в Общинах сильную поддержку; тогда Мария послала за Анной, и принялась уверять, что последняя может всецело положиться на благородную щедрость короля. Анна спокойно сообщила: Кажется, друзья готовятся успокоить меня в этом вопросе - Слава богу, что ты имеешь таких друзей ответила королева но как же король и я? И раздражённые родственницы пустились в меркантильный диспут, перешедший в спор о статусе!
Анна искала поддержки в Общинах, и Мальборо неуклонно отстаивал её интересы. Пока Джон бился при Валькуре, Сара активно собирала голоса тори. Парламент увидел в финансовой независимости Анны важнейшую скрепу послереволюционного устроения. Стороны сошлись в жаркой борьбе. В ход пошли все формы давления от грубых угроз до изощрённого подкупа и объектом их стала Сара, она одна могла склонить принцессу к компромиссу. Цифры потеряли всякое значение и больше не обсуждались. Шрусбери лично обещал Саре добиться от короля пятидесятитысячного содержания для Анны. Но Анна была непреклонна. Кокпит, имевший случай убедиться в королевском великодушии, настаивал на одном лишь парламентском указе. Сара не отошла от своей госпожи и от друзей принцессы. Она отбросила фавор королевы, лишившись его навсегда - причём в те дни, когда предположение о том, что Анна переживёт Марию, не имело никаких оснований. Мы не сомневаемся, что в этом шторме Мальборо стоял у руля и удерживал курс. Но Черчилль не грешил донкихотством. Здесь был его частный интерес; здесь был его долг по отношению к принцессе; здесь виден и государственный интерес на троне иностранный король и наследница экс-короля; так что английская принцесса, объявленная следующей наследницей, должна иметь независимое обеспечение. Мы снова видим в истории Мальборо странное сочетание личных интересов с требованиями общественного долга в критический для страны час. Новому монарху пришлось принять публичное, явное поражение; Общины вотировали для Анны 50 000 фунтов в год.
Мальборо имел самостоятельное значение для государства и короля. Но королева стала преследовать Сару со злой враждебностью, а вскоре неприязнь её распространилась и на графа. Сара, по мнению Марии, вбила клин между ней и сестрою недавно и нежно обожаемой. Она неустанно просила Анну убрать это препятствие и вернуться к прежним отношениям. Анна, вынужденная выбирать между королевой и Сарой, дала понять со всей своей своевольной настойчивостью, что будет стоять за своих друзей, а друзья будут стоять за неё. Добровольный и непреклонный выбор Анны больно ранил её сестру. Возможно, именно неприязнь королевы равно с политической системой Вильгельма, пристрастного к сородичам-голландцам, сказалось на судьбе Мальборо: он, вопреки расчётам, так и не получил командования по чину и способностям. Так или иначе, но это обстоятельство осталось фактором, сокрытым за ежедневной рутиной военных и государственных дел.
Но здесь мы не виним Сару в неверном поведении. Она и её супруг блюли интересы Анны не для того, чтобы ходить в фаворитах при новом царствовании. Говоря о дальнем прицеле, расчёт их простирался далеко вперёд; говоря о ближайших соображениях, они стояли на стороне своих покровителей. Всеми их действиями руководил здравый смысл, а в этом случае и добрые чувства. Они помогали королю в конституционном соглашении; они воспротивились несправедливому посягательству на выгоды принцессы, коей служили.
Король Вильгельм, подобно многим кто правили до и после него, недооценил ирландскую опасность. Поначалу он счёл само наличие таковой проблемы хорошим поводом для того, чтобы говорить с парламентом о солидной армии и пренебрёг прелиминариями Тирконелля к урегулированию вопроса. В мае, когда европейская кампания возобновилась на всех французских фронтах, монарх обнаружил под боком нешуточную ирландскую войну. В Ирландию прибыл Иаков, население приняло его как освободителя; опальный монарх, поддержанный местным парламентом, воцарился в Дублине под защитой католической армии в сто тысяч человек; половина этих сил пользовалась французской амуницией и управлялась французскими офицерами; в стране высадился французский контингент, ставший дисциплинированным ядром ирландской армии. Очень скоро весь остров, помимо протестантских областей на севере, попал под якобитский контроль. И пока Вильгельм смотрел на восток, на Фландрию и Рейн, парламент безотрывно глядел в противоположную сторону. Когда он напоминал парламентариям о Европе, они, негодуя, указывали ему на Ирландию. Раздираемый противоположными вызовами, король неверно ответил на оба и допустил ошибку, стоившую потерянного времени. Он послал Мальборо с британским контингентом в восемь тысяч лучших английских войск к Вальдеку, во Фландрию; позднее он послал Шомберга и Гинкеля с новонабранными полками в Ольстер. Европейская кампания стала бесплодной; ирландская - несчастливой. К концу 1689 года Иаков укрепился в Ирландии, а войска Шомберга простаивали, тая от болезней, сократившись до одной лишь годности к обороне; а положение протестантского севера стало крайне затруднительным и опасным. Если бы Вильгельм в 1689 году пошёл в Ирландию со всеми силами, он смог бы, в 1690 году, свободно вести континентальную кампанию. Но новый год не предоставил ему прежнего выбора. Вильгельм понял, что должен идти в Ирландию с главными силами английской армии. Летом 1690 года он вышел на новый фронт во главе тридцати шести тысяч солдат. Французское правительство, потратив пять тысяч солдат, несколько сот офицеров и скромные ресурсы сумело увести основные силы Англии с главного театра войны. Людовик достиг бы лучшего, когда бы выделил больше войск и снаряжения на ирландское предприятие.
Вильгельм оставил правительство на королеву Марию с советом из девяти консулов: четверо вигов, пять тори,[252] среди последних и Мальборо одновременно главнокомандующий. Страна оказалась в тяжелейшем положении. Вальдек, памятуя Валькур, попытался завлечь французов в ловушку. Но Люксембург был не Юмьер: июльское сражение у Флерюса кончилось тяжелейшим поражением союзников. К этому времени соотношение морских сил Канала сложилось в пользу Людовика флот Франции стал сильнее объединённого англо-голландского флота. Тем не менее, адмирал Герберт (ставший к тому времени графом Торрингтоном) решился на морское сражение и 30 июня/10 июля потерпел поражение при Бичи-Хеде, причём вся тяжесть морского сражения пала на голландцев. По Мэхену, это был самый знаменательный успех французов во всех морских боях с англичанами. В Лондоне говорили, что Голландия стяжала славу, Франция победу, а Англия позор. Теперь морем командовал энергичный французский адмирал Турвиль и французы могли высадить в Англии экспедиционную армию, получили возможность запереть Вильгельма в Ирландии. Девяти консулам около Марии пришлось управляться с делами в тисках острейшего кризиса.
И они справились, найдя поддержку в верности народа и национальном воодушевлении. По всей стране люди вооружились тем, что оказалось под рукой и спешно самоорганизовались в территориальные силы обороны. Мальборо приготовился драться с превосходной, по меньшей мере двадцатитысячной французской армией высадки располагая шеститысячным регулярным ядром в составе наскоро сымпровизированных национальных сил. Тем временем, 1/11 июля Вильгельм одержал решительную победу при Бойне, выбив Иакова из Ирландии прежний король убежал во Францию - но опасность для Англии не ослабла. Иаков вымаливал у Людовика армию для вторжения: нет сомнений, что в июле и августе такое стратегическое решение стало бы верным для Франции. И если оно стало бы принято, Мальборо встал бы перед труднейшей задачей. Ему пришлось бы встретить дисциплинированных французских ветеранов с одной лишь горсткой кадровых войск, с храбрыми, но необученными, плохо вооружёнными массами, чуть ли ни совсем без опытных офицеров. Новая задача для военного искусства того времени - хотя, возможно, и посильная для Мальборо с его адаптивным талантом. Возможно он придумал бы что-нибудь, и наша история говорила бы с гордостью о битве при Доркинге или битве за Лондон, как первом примере сражения регулярных сил с отважными, упрямыми йоменри и милицией при поддержке всего населения. Но король Франции пренебрёг мольбами Иакова. Он более сострадал ему, как беглецу, претерпевшему при Бойне, нежели восхищался его способностями. Тревожные дни июля и августа прошли без особых неприятностей, разве что французы сожгли Тинмут. Готовясь к зиме, Франция расснастила корабли; наоборот, англичане и голландцы успели восстановить боеспособность флотов и выйти в море. Французы упустили шанс.
Поведение Торрингтона в сражении при Бичи-Хеде навлекло на него ярость короля, совета, парламента, нации. Его уволили от командования, арестовали, поставили перед морским трибуналом - и обвинительный приговор значил смертную казнь. Но тактике адмирала хватило защитников. Трибунал единогласно оправдал его, но вердикт не восстановил ни его репутации, ни его самого в командовании.[253]
Когда советники Марии узнали о морском поражении у Бичи-Хеда, Мальборо и адмирал Рассел оказались единственными в Кабинете офицерами с некоторым опытом профессионального морского командования. Тем памятнее дух прочих, пожилых мужей совета, людей совершенно штатских, кто вряд ли умели отличить ют от бака. Они заявили, что взойдут на борт флагмана и научат капитанов, как надо сражаться. К счастью, дело обошлось без таких крайностей.
В середине августа консулы изумились, получив от главнокомандующего план вместе с гарантиями успеха: Мальборо заявил королеве, что ставит на кон свою репутацию. Он предложил отослать в Ирландию все оставшиеся в стране регулярные войска. Консулы, не успев освободить умы от тревожных дум о нависшей интервенции, отвергли предложенную инициативу, не сумев, вместе с Мальборо, понять, что опасности больше нет. К тому времени вражда Денби к Мальборо приняла личный и неприкрытый характер. Когда Мальборо пожелал, чтобы его брата, Джорджа, повысили до адмирала, Денби грубо заметил: Если Черчилль получит флаг, о нём станут говорить, что он адмирал по протекции, так же как его брата честят генералом по протекции.
По наущению Денби, совет ветировал предложение, но так как Мальборо получил поддержку адмирала Рассела и помощь Ноттингема, королева отнеслась с планом к королю. План Мальборо заключался в следующем: захват портов Корка и Кинсейла, то есть основных перевалочных баз между Францией и Ирландией тем самым, Ирландия оказывалась отрезана от французских подкреплений. Мальборо был уверен в том, что двойная, одновременная атака на якобитов Ирландии с юга и с севера непременно приведёт к решительному результату. Вильгельм, осаждавший в те дни Лимерик, обсудил дело со своими голландскими генералами. Все они, подобно английским консулам, высказались против плана. Но король сразу же увидел стратегические преимущества своевременной инициативы. Он отбросил генеральские мнения, отклонил точку зрения консулов и назначил самого Мальборо командующим экспедиционными силами.
Письмо Вильгельма к Мальборо из осадного лагеря под Лимериком:[254]
14/24 августа 1690 года.
* Только получил ваше письмо от 7-го. Решительно поддерживаю ваш план, именно: высадку с четырьмя тысячами пехоты и морскими пехотинцами, что даст в совокупности четыре тысячи девятьсот человек; таких сил вполне хватит для захвата Корка и Кинсейла. Вам надлежит взять с собой достаточно амуниции и использовать корабельную артиллерию, потому что мы не можем отправить к вам отсюда ни одного орудия. Но я вышлю вам достаточные кавалерийские силы, и позабочусь о том, чтобы армия [то есть вражеская армия] не стала для вас бременем. Экономить надобно лишь время, и вы должны действовать со всей поспешностью; дайте мне знать, когда будете на месте.
Вильгельм, R.[255]
Королева не ушла от сомнений. Если ветер останется благоприятным писала она супругу
надеюсь, что дело станет успешным; а если наоборот, то, нахожу, что для посоветовавших это наступят скверные дни, все, кроме лорда Нотт[ингема] высказались категорически против, и лорд-президент согласился лишь потому, что на то был ваш приказ, Англия поражена, что осталась безо всякой защиты, все думают, что мы идём на великий риск.[256]
Приказы, тем не менее, были отданы.
Так Черчилль получил первое самостоятельное командование. До сих пор Мальборо не искал случая отправиться в Ирландию: возможно, он не желал воевать с армией под началом самого Иакова. Но теперь Иаков уехал во Францию. Сезон войны подходил к концу, надо было спешить с приготовлениями. Экспедиционные силы, морские и сухопутные, собрались в Портсмуте; Мальборо отправился туда 26 августа и прибыл 30-го. Он распространил ложный слух о готовящемся рейде в Нормандию в отместку за Тинмут, но не сумел обмануть французов. На счету был каждый день, однако экспедиция задержалась с выходом на две недели из-за неблагоприятного встречного ветра. Войска, посаженные на корабли, страдали здоровьем; часть запасов ушла впустую. Но одни только слухи о готовящемся предприятии возымели стратегический эффект. Лоузен и Тирконелль устали от Ирландии и вовсе не желали попасть во вражеское окружение они бросили союзника на произвол судьбы и отплыли во Францию с остатками французского контингента.
Мальборо, жестоко страдавший от морской болезни, вышел в море 17 сентября направившись (с Божьей помощью) как написал осмотрительный капитан флагмана к берегам Ирландии с восемьюдесятью двумя разномастными кораблями[257]. Отряд подавил батареи на входе в гавань Корка, поднялся с приливом до Пассидж-Уэста; во вторник, 22 сентября, около шести тысяч человек высадились в глубине страны, в семи милях от побережья. К этому времени Вильгельм прекратил осаду Лимерика и вернулся в Лондон, приказав Гинкелю отправить к Мальборо пять тысяч человек для исполнения плана.
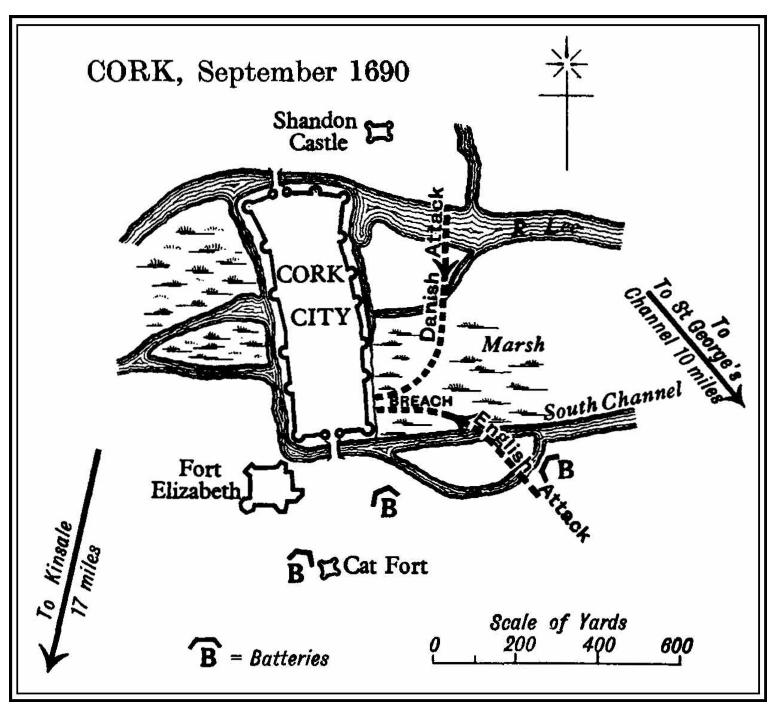
Мальборо в особенности просил, чтобы эти пять тысяч были англичанами главная армия не испытывала недостатка в английских войсках и чтобы ими командовал Кирк, оставшийся тогда без дела. Однако самостоятельный успех чисто английского контингента под началом английского командира никак не вязался с намерениями голландского генерала. Соотечественники Вильгельма вполне усвоили нисходящее от короля мнение: англичане невежественны в делах войны, они должны идти в бой только под строгим руководством учёных иностранных офицеров и лишь при поддержке дисциплинированных иностранных войск. Так, Гинкель, рассыпавшись в извинениях, отобрал для Мальборо пять тысяч голландцев, датчан, гугенотов; они подошли к Корку с северной стороны, и командовал ими герцог Вюртембергский.
Сей высокорожденный индивидуум был младше Мальборо по военному званию, но далеко превосходил Черчилля в родовитости. Он заявил, что станет командовать всей операцией по праву принца королевской крови. Затеялся досадный спор; Гинкель, несомненно, предвидел и предвкушал именно такой результат. Мальборо ссылался на полномочие от королевы, герцог козырял родословной и гневался. Тем временем, два отряда заняли внешние линии Корка и каждый сам по себе, готовились к штурму. Времени обращаться за решением к Вильгельму не было, тем более что никто не поручился бы за решение короля и Мальборо, обременённый заботой о единстве, предложил - не в последний раз в своей жизни прибегнуть к порочному обыкновению древности: поочерёдному, через день, командованию генералов-соперников. Вюртемберг с неохотой согласился. Когда первый день выпал по жребию на командование Мальборо, тот выбрал для караулов пароль Вюртемберг. Герцог удивился, растрогался и, в качестве ответной любезности, выбрал Мальборо как пароль следующего дня. Тем и закончились трения; а герцог, легко и естественно, перешёл под начало Мальборо, распознав с кем имеет дело.
Губернатор Корка, полковник МакЭлигот, высокомерно отказался сдать город, и королевские войска предприняли штурм. Оборонительные сооружения Корка были плохи, а гарнизон в пять тысяч человек слишком мал, чтобы привести городские укрепления в должное состояние. Мощные корабельные орудия, выгруженные на берег пробили брешь в восточной стене. Вечером 26-го Мальборо приготовился к штурму, но губернатор выслал парламентёров; безрезультатные переговоры отняли время, поднялся прилив, осаждавшим пришлось прождать лишний день. 27-го, и в воскресенье, на утренней заре войска предприняли вторую попытку. Наземные батареи при огневой поддержке фрегата, поднявшегося по реке с приливом, били по бреши в городской стене. Голландская колонна в тысячу человек форсировала северный рукав реки; в час пополудни, Чарльз Черчилль, брат Мальборо, произведённый Джоном в бригадиры, повёл через устье пятнадцать сотен английской пехоты со многими знатными людьми и джентльменами-волонтёрами в первых рядах. Вода, хотя и мелкая, доходила до груди, течение валило с ног, а бастионы Корка вели сильный огонь. Но ни голландцы, ни англичане не дрогнули, вышли к крепости, заняли контрэскарп, и занялись перестроением к финальному штурму, но тут МакЭлигот выкинул белый флаг. С учётом его прошлых проделок, капитуляция стала безоговорочной. В плен пошли около четырёх тысяч человек все, кто остались в живых от гарнизона. Мальборо вошёл в город на следующий день, жестоко подавив начавшееся мародёрство.[258]
В те дни мир был очень тесен, и многие родственные узы, оставшись в естественной силе, тянулись через военные фронты. После отъезда Тирконелля, герцог Бервикский, теперь девятнадцатилетний юноша, принял командование над остатками ирландских приверженцев Иакова. Он подошёл к городу с пятью-шестью тысячами солдат так близко, насколько осмелился надеясь выручить гарнизон; но боевые качества войск не позволили ему вмешаться в дело. Он остался лишь зрителем и, в последний раз в своей жизни, наблюдал со стороны за успехами дяди. И пусть жизнь их проходила по разные стороны, оба они оставались привержены узам крови, и сообщались между собой на манер, что стал бы нетерпим на любой современной войне, отмечая, с восхищением, репутационные успехи друг друга на военном поприще.
В те дни прозвучал ещё один отголосок жовиального времени. Сын Арабеллы от Иакова II обретался в окрестностях армии Мальборо, а герцог Графтон, сын Барбары от Карла II, пал на передовой той же войны. Ему было всего двадцать шесть, он питал самые тёплые чувства дружества и восхищения к прежнему любовнику своей матери. Вместе они вели заговор против Иакова; вместе они ушли из лагеря под Солсбери; вместе они наводили порядок в распущенных Февершемом войсках. Вильгельм ложно подозревал в нём, бастарде Карла, якобитские склонности и, оскорбившись на Графтона за голос, поданный в пользу регентства, лишил полка 1-го гвардейского но дал взамен линейный корабль. На этом корабле, Графтоне, герцог доставил Мальборо из Портсмута на место, и, высадившись на берег с шестью сотнями моряков, стал устанавливать осадные батареи. Он получил ранение, когда пытался выдвинуть вперёд одно из орудий, действуя открыто, с присущей ему храбростью и умер спустя одиннадцать дней. Я доволен - с достоинством сказал он перед кончиной - но стал бы более удовлетворён, когда оставил бы мою страну в более счастливом и спокойном состоянии. Он лучше известен по ответу Иакову: король, разгневавшись на Графтона за протест против папистских дел, воскликнул: О чём вы говорите? Вы, человек без совести! Возможно, и без совести, - ответил Графтон - но состою в партии очень совестливых людей.
Мальборо, не теряя ни часа, пошёл от Корка к Кинсейлу; в этот же день его кавалерия обложила и потребовала сдачи от двух фортов, защищавших гавань. Противник отказался от обороны самого Кинсейла и ушёл, не сумев сжечь города, так что правительственные войска получили кров в уцелевших домах. Мальборо прибыл 1 октября, в среду к этому дню в Кинсейл стянулись значительные пехотные силы. Граф сразу же понял что Новый форт куда сильнее, чем это выглядело по докладам, и если защитники не уступят, войскам предстоит регулярная осада. Губернатор, сэр Эдвард Скотт, отверг выгодные условия сдачи. Тогда ему сообщили, что он будет повешен, если королевским войскам придётся вести правильную осаду и нести все сопутствующие тяготы, но и это не сломило упрямого сэра Эдварда. Старый Форт был оснащён куда хуже Нового, и Мальборо решил штурмовать его. Для сурового дела стал выбран Теттау, датчанин, во главе восьмисот человек. Атака началась на рассвете в пятницу. Гарнизон оказался в три раза многочисленнее, чем значилось в докладах, но после жестокого и кровавого боя место удалось захватить. Сто ирландцев были убиты, две сотни пленены.
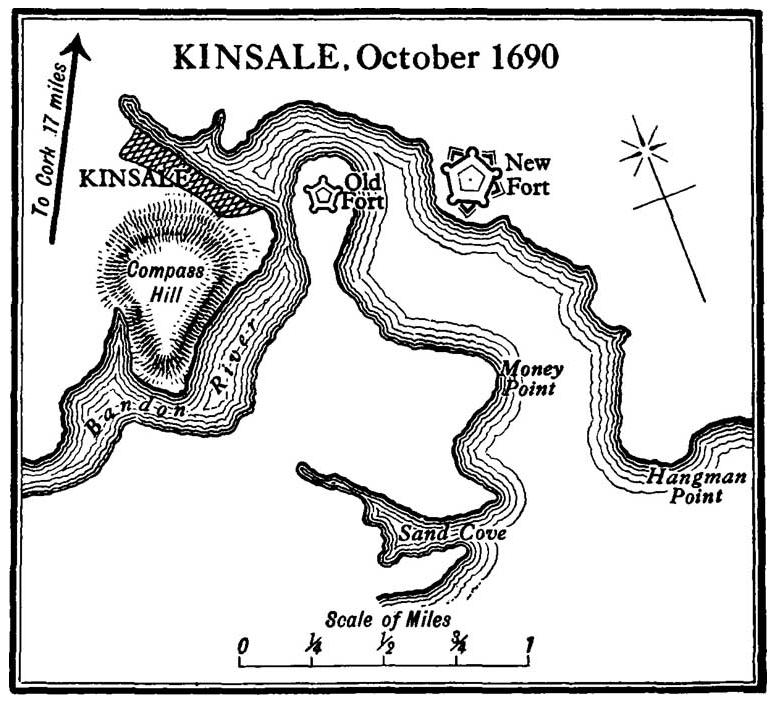
Скотт, не наученный этим примером, отверг повторное предложение о сдаче, холодно ответив, что, возможно, обсудит этот вопрос спустя месяц. Траншеи заложили немедленно. К 7 октября англичане и голландцы довели сапы до контрэскарпа. 9-го числа тяжёлые батареи, дошедшие с великими трудностями по отвратительным дорогам из Корка, начали бомбардировку, пробив, к 15-му октября достаточную для штурма брешь. Сарсфилд, чья кавалерия обреталась по соседству, не смог помочь осаждённым, и бесстрашный губернатор решил, что сделал достаточно для своей чести. Он начал переговоры и Мальборо, обеспокоенный состоянием войск в траншеях стояло по колено воды, приближалась зима, солдаты болели стал рад предложить Скотту почётные условия сдачи. Губернатору разрешили уйти в Лимерик с двенадцатью сотнями выживших и с подобающими воинскими почестями. Но по мере того как вражеские солдаты уходили, граф записывал имя каждого, говоря, что если в дальнейшем кто-то из них поднимет оружие против короля Вильгельма, пощады не будет.[259] Осада обошлась Мальборо в 250 человек, больные наводнили госпитали, победителям достались сто орудий и обильные военные запасы. Но суть успеха была не в этом. Захват южных гаваней лишил ирландских повстанцев всякой надежды на помощь от Франции и обеспечил полный захват страны в самом скором, после прихода весны, времени. Чарльз Черчилль стал губернатором Кинсейла, и Мальборо увёл армию на зимние квартиры. Сам он прибыл по морю в Дил 28 октября, исполнив задуманное и обеспечив полный, дальнейший успех.
Лондон встретил его с большим почётом. В двадцать три дня пишет лорд Уолсли Мальборо добился куда большего, чем Вильгельм со всеми голландскими командирами сумели сделать за год и в Ирландии и за границей.[260] Говоря о военном мастерстве - пришет Фортескью[261] - спокойные и негромкие захваты Корка и Кинсейла в 1690-м оказались самыми замечательными достижениями войны. Вильгельм проявил большую любезность, но в покровительственном его комплименте прозвучало отношение голландца к английским генералам. Мой Мальборо сказал монарх показал себя в большом деле так, как не сумел бы ни один современный офицер со столь же скромным военным опытом. Неужто военный опыт Черчилля был к тому времени так скуден? Танжер, Солебей, Маастрихт, две, по меньшему счёту, кампании под Тюренном, Седжмур, и теперь, в одном этом году, Валькур и Корк: определённо, мы видим в его послужном списке разнообразные по опыту дела, тяжёлые бои, неизменно отличное поведение на суше и на море, почти во всех званиях от энсина до генерал-лейтенанта при самостоятельном командовании.
Некоторые писатели заявляют, что Мальборо вернулся в Ирландию, но это неверно. Мы видим, как в январе он обедает с лордом Лукасом, комендантом Тауэра и передаёт 100 фунтов бедным ирландцам, взятым при Корке и Кинсейле.[262] Он, определённо, надеется на главное командование в ирландской кампании 1691 года; того же ждёт и общественное мнение. Но политика Вильгельма не вяжется с лаврами для солдат Англии. Завершение ирландского дела оставлено Гинкелю, а Мальборо, во главе английского контингента во Фландрии, должен воевать, как один из генералов большой союзной армии её намеревается возглавить сам Вильгельм. Полагаю, что он вполне оценил такую королевскую милость и понял, что Вильгельм, отметив пробелы в его военном образовании, предоставляет Мальборо счастливую возможность набраться опыта и получить ценные знания о каких-то доселе незнакомых ему военных методах прямо из королевских рук.
Теперь нам открыты все обстоятельства 1689 и 1690 годов, и то, что было тайной для участников, стало очевидностью для потомков. Вильгельм прихватил Англию по пути на Францию; Иаков нашёл в Ирландии ступень для возвращения в Англию. И пусть распространение католической религии и осталось важной частью французской политики, для оголтелого мессианства наступили слишком неудобные времена. Людовику, атакованному со всех сторон европейской коалицией, пришлось придержать ресурсы и пустить дела в русло одной лишь жизненной потребности, именно - самосохранения. Итак, Иаков получил инструкции французского правительства - он, впрочем, вполне склонился к тому и сам - привлечь на свою сторону всех ирландцев беспристрастной политикой, оказать равную справедливость протестантам и католикам и тем торить себе путь в Англию. Но ирландский народ и армия, встретившие его с таким энтузиазмом, мало знали и совсем не интересовались значимыми аспектами континентальной проблемы. Они хотели вытравить протестантов и вернуть земли, отнятые у монастырей Реформацией и у их дедов Кромвелем. Они желали вернуться в старое доброе пятнадцатое столетие, напрочь вымарав всё, что случилось с той поры. По сути, они требовали тогда того же, чего добиваются сегодня: независимого католического устроения, с землёй у исторических владельцев, с крестьянской жизнью в примитивных сообществах, при одних лишь племенных и древних установлениях. Они мало интересовались большими намерениями Иакова, простёртыми к английской короне, и менее того - мечтами Людовика о восхождении Франции к мировому господству. В 1689 году Вильгельм в Англии и Иаков во Франции встали пред тем обескураживающим обстоятельством, что народы, коим они хотели и тщились оказать властный патронаж, оказались на деле привержены узким, сугубо провинциальным взглядам. Англия в глазах Вильгельма была чем-то вроде нерасторопного рекрута для антифранцузской коалиции. Ирландия стала для Иакова приёмной, где он обязан был показать себя прежде аудиенции в Англию. Для Людовика Англия и Ирландия были регионами, где надлежало навести кромешный беспорядок, способствуя тем военному положению на оспариваемых границах Франции. Итак, на всех сторонах поднялось сильнейшее замешательство, но, в конечном счёте, возобладал главный европейский антагонизм. Все, самые страстные интересы, подчинились высшему - дуэли Вильгельма с Людовиком и Европы с Францией; все прочие интересы, со всеми побочными, разноречивыми следствиями, при великих недоумениях и страданиях оказались втянуты в этот водоворот, стали вогнаны, вбиты, принуждены, призваны в строй - в ту или иную линию баталии главной войны.
Чтобы вполне понимать историческое описание, читатель должен всегда помнить о том, насколько скудна документация в сопоставлении с тем, что имело место в действительности; и, прежде всего, как жёстко сжато в нём время. Годы уложены в главы, а иногда и в страницы; рассказ внезапно принимает иной оборот, меняются отношения, меняется атмосфера. И в портретах деятелей прошлого постепенно проявляются черты переменчивости и гротеска, та неестественность действий, коей не было в действительности. Но если любой из нас, обернувшись назад, вспомнив три-четыре последних года собственной жизни или жизни страны, детально обревизует события по мере их наступления, и вспомнит последовательную череду собственных мнений, он вполне оценит непременную преходящесть человеческих дел. Комбинации, долго казавшиеся неприемлемыми, становятся в повестку дня. Отвергнутые ещё в прошлом году идеи становятся основанием повседневности. Политические антагонисты занимаются общим делом и, отринув старых друзей, обзаводятся новыми. Узы единства умирают с устранением соткавшей их опасности. Отторжение и реакция приходят на место энтузиазма и успеха. Правительства теряют поддержку, по мере того, как слишком радужные надежды - основание их прежней популярности - меркнут в естественном и общем разочаровании. И всё сказанное более чем привычно тем, кто живёт во времена перемен. События несутся вскачь; люди не отстают от событий. Любое индивидуальное решение в любой момент времени возникает как результат совокупного действия всех пущенных в работу сил, и по прошествии каких-то нескольких лет, люди и народ могут - нет, вынуждены! - думать, чувствовать, и действовать иначе, совсем не в пример прежнему, безо всякого лицемерия и подлости.
Мы видели, как разъярённая Англия ответила на папистский заговор Тест-Актом, Биллем об Отводе, но вскоре, всего через несколько лет, под общие восторги посадила на престол католического короля. Потом та же Англия, рассерженная королевскими обидами, скинула монарха без труда, встряхнувшись во всеобщем порыве, и возложила корону страны на чело иноземного принца. А следом началась сильнейшая реакция, попятное движение, отторжение того же принца или парламентского короля и в обществе живо затеплились очажки симпатии к королю истинному: тому, кто перебрался за море. Возвращение Иакова никогда не казалось невозможным памятливым людям, видевшим и помнившим чудо реставрации Карла. Более того, большинство резонов, послуживших к изгнанию Иакова, потеряли актуальность. Новая конституция установила власть парламента, и действенно ограничила прерогативы и силу короны. Никто не сомневался, что Иаков если вернётся вернётся в итоге некоторой сделки; что его правление будет устроено на принципе ограниченной монархии; что любые покушения на протестантское исповедание английского народа наткнутся на неодолимую преграду. Некоторые писатели взяли правилом жестоко порицать того или иного деятеля за постыдные переходы от Иакова к Вильгельму либо от Вильгельма к Иакову, но всем полезно помнить, что мир не заканчивается на Иакове или Вильгельме: они лишь орудия Англии, а страна, пользуясь королями, ищет счастья и могущества иногда удачно, иногда нет. Английский государственный деятель совсем не обязан подчиняться, и держать ответ перед одними только персонами, кто царствуют по праву офиса или по праву наследования. Он, например, должен блюсти интересы страны и такая лояльность куда важнее. Во времена Мальборо, как и теперь, жили хорошие и плохие люди, но неколебимая верность тому или иному королю никогда не была мерилом человеческой чести или подлости.
Послереволюционным условиям английской жизни не находится аналогий в дальнейшей истории страны. Многие магнаты из тех, кто выгнал Иакова с трона и острова, почитали его в сердцах своих, и, поддержав все парламентские акты, по-прежнему видели в изгнаннике своего настоящего, природного суверена. Все терпели властного и неприязненного голландца, пришельца и нового властелина во имя протестантизма и гражданской свободы, считая чужеземного владыку необходимым злом. Все видели его нелюбовь и презрение к англичанам. Все понимали, что он находит в Англии одно лишь орудие для своих континентальных планов, преследуя, главным образом, интересы Голландии. Все с тревогой наблюдали, как новый монарх теряет популярность, по мере того как растут налоги, а страна претерпевает многолетние беспокойства долгих войн с единичными успехами. И всякий помнил, что смерть Вильгельма от естественной причины, от покушения, или в бою король часто и браво ходил на войну собственной персоной смерть его обернётся тяжким конституционным вопросом, очередным кризисом власти. Видные мужи Англии истово ратовали за протестантскую веру, за конституцию страны, бились против деспотизма, имея перед глазами пример Франции, но, тем не менее, не упускали из виду, что обстоятельства кардинально переменились, что цель осталось прежней, но к ней появились иные пути. И мы не должны удивляться, что поведение тогдашних государственных деятелей отвечает древнегреческой максиме: Люби друга, помня, что он может стать врагом; и ненавидь врага, помня, что он может стать другом. Это было время расщепленной верности, конфликта интересов, перекрёстных уз, двоемыслия, большого притворства. Если монарх нарушает клятвы и интригует против своего народа, если на сцене появляется король-соперник с толпою наследников, государственный муж выбирает между ними из сиюминутных соображений так, король выбирает и набирает министров по злободневной их пользе. Условия и стандарты того времени, его испытания и беспокойства чужды нашим дням. Но, кажется, мы схожи в главном, предпочитая тех, кто стоек и не лжив; кто патриот превыше эгоизма; мы чтим храбрость и здравомыслие, а не обман и переметчивость.
До нас дошли лишь бесплотные контуры тогдашнего, обескураживающего мельтешения времени. Кажется, как говорят уцелевшие записи, Галифакс пытался вести твёрдую линию, наилучшим образом отвечавшую интересам Англии. Мы видели его протестантским оппонентом Билля об Отводе и министром Иакова II. Мы видели его оппонентом Иакова II. Мы видели его жестокое обращение с павшим сувереном в Рочестере. Мы видели его доверенным советником Вильгельма III. Вскоре мы увидим, как, через недолгое время он возобновил отношения с Иаковом изгнанником. В те ушедшие дни никто разве что бездумные, слепые адепты вигов или тори не видели ничего невозможного в такой череде поверхностно несообразных действий Галифакса, тем более что он действовал искренне, в интересах нации. И всё это время - долгий и бурный период - Мальборо, как увидит читатель, следовал политике Галифакса. Дальновидность Мальборо, его здравое, резонное поведение, его отстранённость от дел обеих партий, его ненависть ко всяким проявлениям мстительности, его нелюбовь к Франции, его приверженность делу протестантизма всё это отвечало таким же чертам Галифакса, так что Мальборо соразмерял каждый свой политический шаг с поведением прославленного Оппортуниста.
Англичане намного раньше любого народа во всём мире обрели силу и право на свержение утомившего их правительства; и в главном, такую процедуру унаследовала вся современная цивилизация. Но в дни, когда лидерами партий выступали короли-соперники, когда неприязнь к плохому правительству означала нелояльность, когда сопротивление заблуждающемуся королю было изменой, обычные для современной политической жизни действия оборачивались ужасными делами с тяжкими последствиями. В то время невозможно было заняться никакой государственной деятельностью, не дав торжественной присяги; а обращаться к персоне короля, кто был и партийным лидером, подобало лишь в общепринятых, раболепных и льстивых словах. Тому, кто оказывался на проигравшей стороне при любых государственных потрясениях, грозило не просто увольнение с государственной службы, но конфискация, заключение и даже смерть. И государственные деятели зачастую старались минимизировать риски, умерить для себя и своих семей последствия династических перемен. Подобные опасения не досаждали викторианцам, и неведомы нашему времени. Правила, по которым живём мы, прочно установлены многими предшествующими поколениями. Выигрыши от общественной деятельности уменьшились; риски исчезли едва ли ни полностью. Высокое положение теперь не открывает дорогу к обогащению, но, в большинстве случаев, приводит к финансовым жертвам. Власть у трона переходит из рук в руки со спокойными приличиями. Одни приходят, другие уходят, меняя места в правительстве его величества на места в оппозиции его величества и наоборот - как правило, без дум о личном мщении и, зачастую, безо всяких досад для личной дружбы. Но вы уверены, что государственные деятели двадцатого века имеют право критиковать своих коллег века семнадцатого? Времена стали мягче; ставки и сами игроки измельчали; но сегодняшние стандарты отнюдь не так высоки, как должно думать, наблюдая, с какой непререкаемо высокомерной щепетильностью наши политические лидеры судят о Галифаксе, Шрусбери, Годольфине, Мальборо.
Теперь нам следует подробнее остановиться на личности удивительного Оранского - принца, кто по весомым причинам и к общему благу изъял трон у собственного тестя. С самого детства Вильгельм попал в мрачные и жестокие обстоятельства. Его жизнь прошла без любви. Он никогда не был сыном; он никогда не стал отцом. Его брак состоялся в интересах государства. Его воспитывала сварливая бабка, Амалия Солмская, и он провёл юность по предписаниям тех или иных голландских комитетов. Детство принца стало несчастливым, сам он не отличался здоровьем. Он был полукалека, астматик, с туберкулёзным лёгким. Но в этой чахлой, ущербной телесной оболочке рдел неугасимый жар; жестокие стеснения жизни лишь поднимали градус этого внутреннего пламени, а европейские штормы раздували его в огонь. Вильгельму не исполнилось и двадцати одного года, когда он проявил себя великим государственным деятелем, а потом воевал постоянно, не уходя с поля и властвовал, умея проторить путь через любую интригу домашней, голландской, и европейской политики. Четыре года он стоял во главе английского заговора против Иакова.
Женщины мало что значили в его жизни. Долгое время он держал в чёрном теле любящую, преданную жену. Он был к ней справедлив без чрезмерной привязанности. Он был одновременно придирчив и холоден. Десять лет жизни Марии в Голландии прошли в тесном, замкнутом мирке. Вильгельм оградил её голландскими служителями, выгнав прочь даже и её английского капеллана. Ей пришлось смотреть на мир его глазами, не видя очень многого. Неприятно читать записки епископа Кена о том времени. И пусть острословица Элизабет Вильерс (впоследствии леди Оркней) поддержала семейную традицию, став его титулованной любовницей, он ничуть не был дамским угодником. Позднее, ближе к концу царствования, когда он понял, насколько полезна Мария в сфере его английской политики, он стал выказывать к ней глубокую благодарность, как к верному другу или сотруднику Кабинета, ответственному за исправную работу правительства. И он истинно скорбел после её кончины.
По религиозным воззрениям он, разумеется, был кальвинистом; но, кажется, не находил должного духовного утешения в жёстких доктринах этого исповедания. На деле, как король и командующий, он обходился безо всяких религиозных предубеждений. Никакой агностик не остался бы при лучшей философской беспристрастности. Протестант, католик, иудей, язычник он не делал разницы. Франция вызывала в нём ужас и ненависть: скорее поэтому, а не из-за неприятия идолопоклонства, он питал те же чувства к галликанскому католицизму. Он, не сомневаясь, брал на службу офицеров-католиков, если те отвечали его нуждам. Он использовал вопросы религии как фишки в своих политических комбинациях. Он, человек бивший в протестантский набат в Англии и Ирландии, имел изрядное достоинство в глазах Папы, и отношения их, во все времена, могут послужить примером искусной государственной деятельности. Он, словно бы, родился с единственным назначением: противиться доминированию Франции, оказать сопротивление Великому королю. Жизнь его нашла главное содержание в откровенной ненависти к Франции и личной вражде с Людовиком XIV. Все его труды обратились против тирана, кто замыслил уничтожить голландскую республику, и кто на деле захватил, и разграбил маленькое Оранское княжество, родовое гнездо Вильгельма, оскорбив и национальную гордость, и личность принца.
Разумеется, что в силу полученного воспитания и с такой жизненной миссией Вильгельм должен был стать и стал жестоким человеком. Сам он не готовил убийства Виттов, но радовался их концу, извлёк из расправы над братьями выгоду, предоставил убийцам защиту, и назначил пенсию. Резня в Гленко не отозвалась в нём никакими эмоциями. Ни вероломство, ни злодейство этого преступления не сказалось на его циническом спокойствии. Впоследствии он досадовал только на неприятности из-за поднявшегося шума. Он мог без всякой жалости уничтожить политического оппонента, не проявляя, впрочем, ненужной жестокости, а потом обращался с поверженным врагом презрительно или безразлично. Он не тратил времени на второстепенные мести. У него была одна вендетта с Людовиком. Но опыт, нажитый смолоду во главе армий, и бесстрашное сердце Вильгельма не помогли ему стать великим полководцем. Он ни единожды не показал в бою, что обладает предвидением, этим признаком военной гениальности. Он был всего лишь решительный человек с отменным здравомыслием, и пришёл к военному руководству по обстоятельствам рождения. Его истинный талант проявился в ином в политике. Возможно, никто и никогда не превзошёл Вильгельма - государственного деятеля в прозорливости, спокойствии, благоразумии. Высокую его славу составили мастерство комбинатора, находчивость, искусство справляться с трудностями, умение использовать фактор времени и слабости других; его безошибочное чувство меры, способность ранжировать цели и отмерять усилия.
Вильгельм с плохо скрываемым раздражением наблюдал за нескончаемой борьбой главных английских лиц и партий. Высшим его интересом была большая война, начавшаяся теперь в Европе, и огромный союз, приведенный им к бытию. Он видел и презирал в тех, кто стали теперь его подданными, зашоренность островного видения. Он полагал английскую экспедицию обходным манёвром: необходимым, но утомительным делом, что начато и должно быть исполнено ради высшей цели. Он сожалел о времени, потерянном в Лондоне, а потом в Ирландии вдали от основного театра мировых событий. Он никогда не любил Англии, не интересовался нашим внутренним устройством. Он видел одни лишь дурные стороны страны. Он постоянно просил парламент обратиться к ситуации на Континенте. Ему были нужны вся сила и богатство Англии для европейской войны. За этим он и приехал к нам как вербовщик. Сам он - в скрытности и интригах заговора подготовил устранение глупого родственника, но мало во что ставил английских соратников по конспирации: принц крови не мог доверять людям, кто, пусть и с его подстрекательством, но стали повинны в измене коронованному хозяину. Он слишком много знал о ревностях и интригах английской знати, чтобы испытывать к ней приязнь или уважение. Он использовал английских вельмож в собственных целях, награждал за службу; но почитал низшей расой, предпочитая стойких и верных голландцев. Английские государственные деятели виделись ему клятвопреступниками и, что хуже, людьми провинциальными, а английские солдаты неотёсанным материалом, с плохой, по меркам Континента, выучкой. По мнению Вильгельма, профессиональные знания английских генералов оставляли желать лучшего, и помочь им мог только продолжительный боевой опыт. Он не отказывал флоту Англии в храбрости и опытности, но любил другой флот, традиции Тромпа и Рюйтера. Голландцы были его детьми, а англичане навсегда остались пасынками приёмышами; они обременили его некоторыми родительскими обязанностями, но предоставили на срок опекунства - и некоторое имущество, а с имуществом и важные выгоды.
Усевшись прочно на троне, он не трудился скрывать своих чувств. Якобитский свидетель, генерал Диллон, бывший в то время пажом и имевший замечательные возможности для наблюдений, записал в 1689 году, что никогда не видел английских вельмож за обеденным столом принца Оранского: там были лишь герцог Шомберг тот всегда сидел по правую руку Вильгельма и голландские генералы короля. Английские нобльмены могли стоять за креслом Оранского принца, но их никогда не приглашали сесть за трапезу.
Графы Мальборо и Кларендон часто присутствовали на обедах, но их отсылали с середины. Диллон говорит, что прошли несколько дней, прежде чем он услышал, как Оранский проронил за столом несколько слов. И когда он спросил сотоварища-пажа, молодого, красивого Кеппеля, почему король никогда не разговаривает, тот ответил, что он достаточно разговорчив вечерами, за бутылкой, оставшись между друзьями.[263] Неудивительно, что эти манеры, и, более, настроение откуда эти манеры с очевидностью произрастали, глубоко оскорбляли общество. А англичане, даже и послушные новому правителю, в ком они чувствовали необходимость, горды и заносчивы не менее любого европейского народа. Никому не приятны антипатия и неуважение, в особенности, когда чувства эти неподдельны, безосновательны, сильны. Большие вельможи и парламентарии, сделавшие революцию, и оставшиеся её стойкими приверженцами, не могли, тем не менее, уйти от воспоминаний о непринуждённом веселье и обаянии двора Карла II. Они помнили, что Иаков, при всех политических просчётах, отличался достоинством и вежливостью, родовыми качествами последних Стюартов. И отвлёкшись от политики, они, в скором времени стали с тоскою глядеть назад, в дни, когда имели собственного короля.
Вильгельм вёл себя отчуждённо, был прожорлив в застольях, молчал и хмурился в компаниях, не любил женщин, питал неприязнь к Лондону такие манеры не по душе воспитанному обществу. Леди окрестили его унылым голландским медведем. Его обращение с английскими военными глубоко язвило армию. Ни офицеры, ни солдаты не могли избавиться от чувства унижения, глядя на послереволюционные перемены. Все важные посты достались голландцам. Англичане кисло глядели, как по Уайтхолу и Сент-Джеймсу марширует голландская пехота, лейб-гвардия нового времени невзрачные люди в мешковатой синей униформе, пришедшие на смену прежнему, изгнанному теперь из Лондона, алому великолепию колдстримцев и бравых молодцов 1-го гвардейского. Какая жалость, думали они, что новичкам - в силу национального интереса никак невозможно попробовать английского тумака.
Весьма забавно, что самым приближенным к новому королю английским государственным деятелем; человеком, вошедшим к нему в доверие; англичанином, кто получил близкое расположение Вильгельма, оказался тот, кто заслужил всё это в наименьшей мере. Когда власть Иакова рухнула, Сандерленд бежал в Голландию, боясь мести католиков за то, что привёл их хозяина к краху. Мы обнаружили в Бленхейме одно из его уцелевших писем. Документ интересен тем, что проливает свет и на положение, собственно, Сандерленда, и на его отношения с Черчиллем. Он пишет Черчиллю из Роттердама 19 декабря 1688 года:
* Мы старые друзья со многолетней привычкой к одинаковому образу жизни, и я не сомневаюсь, что вы сделаете всё возможное, чтобы помочь человеку в моём положении; но сегодня в том нет необходимости, речь о другом. Моя жена собралась в Англию, и я не могу упустить случая, чтобы не напомнить вам о себе и прошу вас помочь ей: вечная нужда в деньгах, особенно острая теперь. Если она спросит о Георге и Подвязке, оставленных мною на хранение вам и миледи Черчилль, прошу отдать их ей. Думаю, я поступил так без необходимости, как и во многом другом, в особенности в том, что бежал; но когда мы виделись в последний раз и много раз до того, я, более всего на свете, боялся папистов. Надеюсь, я был тогда прав, и тешусь этой мыслью.
Кажется невероятным, что человек столь одиозный, столь дискредитированный как советник, стал, в дальнейшем, высокопоставленной персоной в стране, коей он так странно послужил. Тем не менее, всего через два года этот папист-диссидент, кто, одновременно, был неверным слугою Англии и Иакова, получал французское жалование, и интриговал с Вильгельмом, обрёл наилучшее благоволение у избавителя протестантов, стал главным делателем Кабинетов, а вскоре ближайшим наперсником трона. В ином столетии Каслри оправдывал поддержку Талейрана после Ватерлоо тем, что французы нация преступников, и что управлять ими способен лишь величайший преступник. Кажется, подобный резон и обратил Вильгельма к Сандерленду. Вторым и перечень на том исчерпан английским фаворитом короля стал Генри Сидни, чьи влияние и богатство стали поводом для критики. Среди прочих, обласканных королевскими щедротами, мы видим лишь испытанных голландцев и иностранных друзей Вильгельма. Бентинк стал графом Портлендским; Зулестайн графом Рочфордом; Рувиньи графом Голуэем; старый Шомберг герцогом Шомбергом[264]; молодой Шомберг герцогом Ленстерским; всем им достались высокооплачиваемые места и большие угодья, отрезанные от коронных земель.
Конструкция подлинно национального правительства Англии скоро пошло трещинами. Виги считали, что революция обязана им. Они прозорливо выстрадали Билль об Отводе; они рисковали, затеяв обширный заговор; теперь они хотели награды. Их рассуждения, принципы, дела всё нашло подтверждение, оправдание, всё получилось так отчего же все офисы не достались одним только вигам? Разве не вигов отгоняли от власти, как это бывало прежде и во многих случаях, проклятые советники предпоследнего короля? Но Вильгельм понимал, что не увидел бы английской короны без помощи Кавалеров и англикан а эти круги были основанием торийской партии. Более того, в то время королю нравились торийские настроения. Партия тори превозносила коронную власть. На их стороне была церковь сторонница наследственной монархи; на время кризиса, церкви пришлось отставить собственный тезис о непротивлении, но теперь она вернулась к нему, глубоко скорбя о прежнем отступничестве. Вильгельм видел, что принципы вигов неизбежно приведут к республике. Он правил Голландией как истинный король, нося имя штатгальтера, и совсем не хотел быть штатгальтером Англии под королевской вывеской. Итак, он решился распустить конвенциональный парламент, давший ему корону и как говорили виги не завершивший ничего из начатых дел. Выборы февраля 1690 года воскресили похороненные имена Вигов и Тори и тори победили. С тех пор политики окончательно разошлись по партиям, многопартийная система стала прочным, официальным и до наших дней незыблемым установлением страны.
Были, впрочем, и люди умеренных взглядов. Шрусбери, Годольфин, Мальборо, Сандерленд, и в какой-то мере Галифакс пожилой уже человек заняли промежуточную, околопартийную позицию: сами они, разумеется, полагали, что стоят над партиями. По их представлениям пишет мистер Фейлинг,
обе либо какую-то из партий должно было использовать, чтобы удерживаться на плаву и для лучшего исполнения коронной службы. Не стоит забывать о последнем; трое из них не имели никаких путей отхода, и обязаны были заботиться хотя бы о ближайшем своём будущем, но когда интересы нации совпадали с их собственными, они выказывали изумительные патриотизм и предприимчивость.
Все эти люди были накоротке. Шрусбери приятельствовал с Уортоном. Годольфин и Мальборо были в доверительных отношениях с Расселом. Они составили сообщество даровитых деятелей с исключительным деловым опытом, со знанием двора и парламента; неудивительно, что этот кружок стал центром правительства, Вильгельм сообщался с ними как с министрами или советниками и по мере требований времени дополнял этот центр, пристраивая к нему вигское и торийское крылья и выдерживая скрупулёзный баланс.
Но при всём том, отношения короля с нобльменами шли по порочному кругу. Он не мог доверить офицерам-англичанам высоких постов, и не позволял английским солдатам искать чести на поле, опасаясь так он думал оказаться в заложниках этой силы. Для всех ключевых постов армии ему годились лишь голландцы или иностранцы. Английские офицеры и английские солдаты злились, и объясняли своё отстранение недоверием короля. Король не доверял англичанам, те королю и хуже всех страдал Мальборо. Сильнейшее желание последнего, то есть руководство армией в большой войне стало к тому времени желанием неодолимым. Он видел в себе силу, способную буде на то желание Вильгельма - принести замечательную пользу Европе, Англии, самому Мальборо. Вильгельм желал того же как политик но опасался доверять Мальборо. Он знал о генерале Монке; он помнил, что случилось в Солсбери. Итак, непременное отстранение Мальборо от естественной и законной карьеры стало жизненным принципом Вильгельма. Чем больше способностей выказывал генерал Мальборо, тем крепче он оседал на подчинённой роли; по мере того, как дарования его росли, Вильгельм прибегал к сильнейшим мерам сдерживания.
Должно быть, Мальборо понял своё положение а то и счёл его непоправимым к началу 1691 года. Он оказал новому режиму замечательные, если не решившее всё дело услуги, в дни революционного кризиса и при оформлении послереволюционных отношений. В 1690 году он стал едва ли ни единственным генералом, сумевшим добиться военных побед. Дело при Валькуре, быстрый захват Корка и Кинсейла были на слуху. В Лондоне говорили, что он станет герцогом и кавалером Подвязки, что его назначат начальником артиллерии и главнокомандующим в Ирландии в следующую кампанию. Но герцогство было выше его средств: десять лет спустя, он отказался стать герцогом по той же самой причине; однако мы знаем из писем Анны и Датского принца к королю, что Мальборо хотел стать рыцарем Подвязки. Он не отказался бы от поста начальника артиллерии, чтобы поддержать титул; но, прежде всего, желал независимого командования на одном из военных театров. И ему отказали во всём. Артиллерия досталась Генри Сидни, гражданскому история молчит о его квалификации. Ирландская кампания досталась Гинкелю; Вальдек, несмотря на Флерюс, продолжил служить во Фландрии, теперь под главным командованием короля. А Мальборо пришлось проглотить такое обращение. Он был человек на службе и, по обязанности, отбросил как генералы, государственные деятели и финансисты наших дней все личные амбиции и корыстные интересы. Но он обиделся оскорбился. Кажется, он пришёл к выводу, что Вильгельм намерен держать его в вечном подчинении. При Иакове, путь преградили паписты; при Вильгельме голландцы.
Кампания 1691 года открылась представительной конференцией в Гааге. Сообщество наций собралось согласовать общие действия против общего врага, Франции. Англия, Нидерланды, Пруссия, германские государства, Империя, Испания, десяток малых держав все выслали представителей. Едва ли крещёный мир видел доселе такое сборище владетельных князей и государственных деятелей. А во главе стоял Вильгельм во всей своей славе, архитектор союза конкурирующих государств и конфликтующих исповеданий, суверен двух славных народов, их главный военный командующий; у него было всё, он не нуждался ни в чём кроме военного таланта. Великолепную церемонию грубо прервали пушки. Войну ожидали в апреле или мае, как того требовал этикет, но лишь начался март, как Людовик со своим полководцем Люксембургом, со своим инженером Вобаном, и стотысячной армией внезапно появился у важной пограничной крепости Монс. Вильгельму пришлось спуститься с пьедестала и сесть на коня. Он едва сумел набрать армию в пятьдесят тысяч и мог только наблюдать за падением Монса. Вот вам и Гаагские посиделки.
Мальборо до времени оставался в Англии, занимаясь рекрутским набором. Мы располагаем письмом, удостоверяющим его плохие отношения с Денби, и, одновременно, добрые с королём.[265]
Уайтхол, 17 февраля 1691 года.
Отсылаю вашему величеству перечень того, что мы сделали касательно рекрут. Одновременно позволю себе высказать вашему величеству, что до смерти устал от несуразных методов работы лорда-президента: он совершенно игнорирует обязанности офицера в том, что касается рекрут, и вообще во всём, что касается солдата; после того, как я отдаю на сей счёт необходимые приказы, он делает всё, что ему заблагорассудится, вмешиваясь в дела с палатками, оружием, и вычетами - во всё, что было решено ещё до отъезда вашего величества из Англии, и если так будет продолжаться, работа никогда не будет выполнена; думаю, что всё это коренится в его предубеждениях уверен, необоснованных в отношении меня, и препятствует мне исполнять для вас службу, коей я предан душевно и сердечно, кою желаю исполнить со всем усердием для пущего преуспеяния вашей персоны и правительства. Надеюсь, ваше величество скоро окажется здесь, а затем я буду умолять вас не оставлять меня в Англии, когда вы в отлучке.
В мае союзнические войска вышли в поле чтобы, по крайней мере, отбить Монс. Король перевёл Толлемаша, командовавшего английским контингентом, в Ирландию, служить под Гинкелем и поставил Мальборо на освободившееся место. Мальборо и граф Солмс выехали загодя, чтобы организовать общий сбор войск в окрестностях Брюсселя. Вальдек командовал; Вильгельм тем временем отдыхал в своей резиденции в Лоо. На пути к Монсу стоял Люксембург с основательными французскими силами. В конце июня Вильгельм прибыл в штаб-квартиру; тогда и, началась серьёзная союзническая кампания. В первый раз после царствования Генриха VIII король Англии лично командовал боями на Континенте; вся знатная, модная и резвая молодёжь Лондона поспешила во Фландрию, показать себя в деле. Но ничего не случилось. Люксембург встал на отличной оборонительной позиции, Вильгельм не решался атаковать. Большие армии совершали марши и контрмарши, придерживаясь военной ортодоксии, а драгоценное время сухого лета таяло день за днём. К концу августа всё было кончено. Вильгельм, обескураженный и несколько униженный, отвёл союзнические армии на квартиры. Путь отхода шёл через боевые поля Флерюса, и павшее духом войско содрогнулось от вида неубранных трупов вальдековых солдат. Вильгельм передал командование Вальдеку, и вернулся в Лоо.
Но несчастливая кампания на том не закончилась. В середине сентября, когда обычай предписывает уходить на зимние квартиры, Люксембург организовал отважный кавалерийский наскок на хвост союзнической армии та шла от Лёза к Граммону. Восходящая звезда французской армии, офицер Виллар, ударил по голландской кавалерии, разбив её в сабельной атаке. Пехоту охватило замешательство. В осеннем воздухе вдруг разразилась тяжёлая пальба. Люди и лошади кричали, носясь в суматохе. Мальборо вёл британский контингент к стоянке, успев перейти реку Катуа, но тотчас повернул, и кинулся обратно, к переправам. Перед ним, по равнине, вспыхивали сталь и огонь широко раскинувшегося боя. Но хладнокровный Люксембург ограничился кавалерийской атакой, довольствовался успехом дня, и вывел из боя свою воодушевлённую армию, прежде чем британцы развернулись в боевой порядок. Итак, кампания закончилась для союзников чем-то вроде нелепого инцидента нелепого, но с потерей семи сотен человек.[266] Вальдек привёл смущённых голландцев и обозлённых англичан на зимние квартиры; во всех лагерях и гарнизонах повторяли, что король Вильгельм не спешил на поле, но поспешил с поля.
Нам остались два документальных отрывка о делах нашего героя по ходу этих несчастливых предприятий. Первый принадлежит пенсионарию Гейнзиусу впоследствии, он станет замечательным помощником Мальборо в Голландии и дело происходит в штабе Вильгельма. Король спросил князя Водемона что тот думает об английских генералах. Мальборо не выпало случая командовать войсками в бою, но он произвёл впечатление своею личностью, организаторскими, административными способностями, работой в совете. Водемон дал ответ в следующих словах: У Кирка есть кураж; у Ланьера мысль; Макей опытен; Колчестер храбр; но в графе Мальборо есть что-то непередаваемое. Кажется, в персоне его объединились все перечисленные качества. И если выразительно добавил он я вдруг не утерял обычного своего умения судить о людях, он, при такой комбинации превосходных достоинств, стоит наособицу от всех подданных вашего величества и однажды поднимется, до самых вершин военной славы. Кузен ответил король Вильгельм, кто всегда умел принимать нежелательную правду вы сделали своё дело, ответив на мой вопрос; верю, что граф Мальборо сделает своё, оправдав ваше предвиденье.[267]
Второй зарисовке редкому свидетельству энтузиастического настроения Мальборо мы обязаны графу де Донна. Армии выстроились у Бомонта в надежде на сражение. Британцы стояли в полной готовности.
Нас познакомили пишет прусский генерал и, как-то принято между солдатами, в особенности при такой оказии, мы пустились в профессиональный разговор. Мальборо указал мне на своих великолепных англичан. Он спросил моего мнения: разве таких можно победить? разве французы устоят пред такими людьми? Сэр ответил я взгляните в сторону врага; а там стоят такие воины, кто, без сомнения, считают себя равно непобедимыми, а если так, это лишь вопрос мнения.
Время показало, кто был прав в этом споре.[268]
Для небогатых деньгами стран того времени, очередная кампания, то есть годовое содержание большой действующей армии в постоянном контакте с неприятелем, стала тяжёлой обузой. Потеря целого года придавила хрупкий остов Великого союза. Все вильгельмовы дипломатические дарования пошли прахом. Джону Черчиллю исполнилось сорок три года: возраст полного расцвета сил и способностей. Он успел познать науку войны и приобрести военный опыт; он был совершенно готов к делу. И он оказался на войне нерешительных, с напыщенным видом манёвров; он грустно размышлял о потерянных возможностях и, несомненно, понимал, как быстро и кардинально сумел бы изменить ход всей кампании, не будь так тщательно и крепко связан по рукам и ногам; и душу его охватил гнев стоит ли нам тому удивляться? И не нашлось пророка, кто прошептал бы ему: Терпи! И воздастся тебе! Терпение Мальборо - выражение это могло бы стать пословицей. Теперь он, как никогда, нуждался в этом качестве. Пройдёт ещё десять лет, пять мирных, пять военных, десять лет в прочном ощущении того, что жизнь не состоялась десять лет, прежде чем он снова получит военное командование.
Историю нельзя писать с умолчаниями. Хронист плохо документированных времён обязан, как бы то ни было, вести рассказ. Если факты скудны, ему послужат слухи. Лакуны в аффидевитах заполнит болтовня. Всё познастся в сравнении. Некоторый сомнительный факт приобретёт вес в сопоставлении с другим. Если нет свидетельства, пригодится и лжесвидетельство. Поддельное письмо если оно древнее по меньшей мере лучше пустоты. Нужно со всем тщанием искать аутентичные документы и неоспоримые свидетельства, но если их нет, в ход идут не столь достоверные, второстепенные материалы, выступая - зачастую безо всяких извинений и оговорок - на первый план в разворачиваемой автором драме. Хоть что то и это что-то, по любому рассуждению, лучше, чем ничего. Но когда работа завершена, когда каждая крошечка знаний о предмете подобрана, отсеяна, взвешена, уложена в повествование, полезно задаться вопросом: соответствует ли результат тому, что происходило на самом деле. Выслушаем признание Ранке, кто превосходит прочих историков глубиной и честностью суждений.
Несколько лет назад, меня обвиняли в том, что я пишу историю по обрывкам. Естественно, я не делаю этого, когда располагаю подробными материалами. Но когда оригиналы утеряны, либо скрыты, приходится, по необходимости, использовать неполные документы и обрывки сведений. Обыкновенно, автор оказывается в именно таком положении, когда события намеренно утаены от внимания и когда речь идёт о самых важных делах.[269]
В течение двухсот лет историки придерживались единого убеждения, говоря о том, что ведущие деятели Англии, сделавшие революцию 1688 года, в скором времени стали предателями протестантизма и законности. Они, вероломные - в полном смысле этого слова люди, плели заговоры против Вильгельма III. Они затеяли секретную переписку со свергнутым королём, выказывая, во всякой возможной форме, раскаяние и примирение, выпрашивая прощения. Они разглашали правительственные секреты, выдавали военные и морские планы, пытались совратить армию и увести флот с заслонов на путях вторжения в страну; словом, они вынашивали заговор реставрации на французских штыках. И они вели себя так, гоняясь за богатствами и почестями, с намерением оставить за собой высокие посты после возвращения короля Иакова. Подобные интриги, в разной мере, но всегда деятельно, вели Мальборо, Шрусбери, Рассел, Годольфин, Сандерленд, Галифакс и затем Сомерс, вместе со многими другими, не столь видными персонами. И в подкрепление указанного тезиса, историки рисуют всех их кричащими красками, как обманщиков и предателей. На деле, это, скорее, портреты китайских мандаринов, а не политиков Европы.
Приходящим поколениям свойственно тешить себя мыслями о порочности тех, кто жили прежде, в более славные времена. Но подобные утверждения носят сомнительный характер: в самом ли деле персоны на высочайших постах; люди, преданно служившие общественным интересам, люди высоких дарований, со многими благородством и доблестями в самом ли деле всех их отличали настолько постыдные черты характера? Важно понимать, что именно из написанного против них чистая правда; какие интерпретации поведения этих людей можно принять как авторитетное, основанное на истине, не окрашенное партийным пристрастием мнение специалиста; какие свидетельства частично или полностью недостоверны, искажены, преувеличены или попросту поддельны; как можно судить даже и о непререкаемых фактах, принимая во внимание обстоятельства времени. И чтобы это понять, необходимо вскрыть и обревизовать те основания, на каких покоится огромный и внушительный фасад письменной истории.
Теперь, покончив с необходимым введением, мы приступим к разбору конкретных материалов. Читателю предстоит разобраться в подробностях и самостоятельно выбрать между мнениями. Дальнейшее изложение пойдёт о некоторых исторических документах; мы, с целью упрощения, опустили некоторые подробности. Но большинство фактических констатаций подтверждены авторитетным консенсусом. Расхождения специалистов во мнениях вынесены в комментарии.
Помимо нескольких документов из французских архивов, помимо тех сплетен, что нашли отражение в разных английских мемуарах и современных письмах, все обвинения против лидеров революции основаны на сохранившихся материалах о том, что думали или писали об этих людях сен-жерменские якобиты. Никаких собственноручных писем не существует. Не существует даже и сколько-либо подтверждённой копии какого-либо из писем Мальборо, за одним знаменитым исключением: письмо залива Камаре, коему будет посвящена отдельная глава. Но иных писем нет, и это примечательное обстоятельство. В то время как в архиве короля Вильгельма содержатся многие собственноручные письма, равносильные признанию в заговоре, написанные ему до революции, в особенности письмо Мальборо от 4 августа 1688 года, в якобитских материалах нет ни одного подобного документа. И если - как нас уверяют - конспираторы тщились заслужить прощение Иакова на случай реставрации, опальный король, естественным образом, должен был бы истребовать у них компрометирующие обязательства, подобные добровольному залогу Черчилля в пользу Вильгельма. И Черчилль - доказательством тому служит его поведение в деле с Вильгельмом - не побоялся бы дать таковой залог. И если считать правдой его мольбу о паре строк, написанных рукой короля, Иаков, резонно, мог бы ответить так: И вы вышлете мне в ответ две строки, написанные вами? Можно не сомневаться, что если бы таковые собственноручные письма существовали, они с величайшей бережностью хранились бы в якобитских архивах, и дошли бы до нас теми же каналами, что и многие документы куда меньшей важности. Но у нас ничего нет. Ничто не дошло, ибо не существовало. Остаются только утверждения в якобитских записках; итак, эти записки представляют чрезвычайный интерес.
С начала жизни, Иаков привык писать дневники и заметки о событиях, в каких участвовал. Он - говорит Бёрнет - постоянно вёл журнал обо всём происходящем и показал мне большую часть своих записей. Его первая жена, умершая в 1671, начала писать жизнеописание супруга целиком почёрпнутое из его дневников. Она показала книгу своей работы Бёрнету - позднее Иаков подумывал нанять Бёрнета, чтобы тот закончил эту работу. Убегая из Англии, король позаботился о сохранности своих бумаг. Он свалил их в ящик и доверил тосканскому послу, и тот, в конечном счёте, переслал документы из Ливорно в Сен-Жермен. Тринадцать лет спустя, 24 марта 1701 года, Иаков дал письменное распоряжение, доверив оригинал мемуаров... написанных нами собственноручно попечению Луиса Инесса, или Инеса - принципалу Скотс Колледжа в Париже и его преемникам. 22 января 1707 года, сын Иакова - Старый претендент - подписал приказ о временном, на несколько месяцев, изъятии относящейся к 1678 году и позднейшим временам части мемуаров его величества и других собственноручных его бумаг. 9 ноября 1707 года он подписал обязательство выплачивать сто фунтов в год, начав выплаты в течение шести месяцев от даты своей реставрации, Скотс Колледжу где по особому распоряжению нашего короля-отца хранятся оригинал мемуаров и рукописи. В 1734 году Луис Иннес был жив, и бумаги оставались в его распоряжении. Итак, нет сомнений ни в самом существовании мемуаров, ни в месте, где они пролежали всё восемнадцатое столетие. В начале французской революции, Скотс Колледж, пробуя разные каналы, пытался переслать историческое сокровище в Англию, для сохранности. Полагают, что в 1793 году за исполнение задачи взялся господин Шарпантье. Его арестовали в Сент-Омере, а его жена, испугавшись того, что королевские гербы вражеской Англии на переплётах могут навлечь на неё опасность, сначала закопала тома в саду своего дома, а потом выкопала и сожгла. Тем закончились путешествия мемуаров, единственного оригинала написанного королём собственноручно.[270]
Вместе с тем, к счастью, сын короля, Старый претендент, решил составить подробную биографию отца из мемуаров и других бумаг. Работа, получившая название Жизнь Иакова II была выполнена, составила четыре тома и хранилась там же, в Скотс Колледже - долгие годы, рядом с материалами, ставшими ей основой и, в большой степени, содержанием. Одна фраза, характерная среди многих иных намёков показывает, что временной интервал создания Жизни... укладывается в первые семнадцать лет восемнадцатого столетия. Никогда ещё сын [Старый претендент] не наследовал от родителей такого сходства, телесного и душевного, как его царствующее ныне величество от отца, покойного короля, и королевы-матери.[271]
Очевидно, что фраза эта написана после смерти Иакова II и ещё при жизни королевы. Дальнейшие скрупулёзные исследования сузили временной период до 1704-1710; многие склоняются к мысли, что работа шла около 1707 года, когда, как мы видели, важная часть документов была на несколько месяцев передана в Сен-Жермен. Итак, существовали мемуары, ныне утраченные и Жизнь..., написанная после смерти Иакова по указанию Старого претендента.
Авторство Жизни вызывает куда больше сомнений, нежели её датировка. Некоторые учёные приписывают авторство самому Инессу. Другие видят в ней работу якобитского джентльмена, клерка в Сен-Жермене по имени Диконсон. Особого значения в том нет; читатель, впрочем, познакомиться вскоре с письмом, удостоверяющим авторство Диконсона.
Копия работы Диконсона обнаруженная в доме Английских Бенедектинцев в Италии, была приобретена принцем Уэльским в годы наполеоновских войн, и после шести лет кружного блуждания, с большими трудностями, в начале 1813 года добралась до Англии. В 1816 году преподобный Джеймс Стенье Кларк, историограф принца Уэльского - на то время уже Регента - отредактировал и опубликовал работу Диконсона под названием Жизнеописание Иакова II извлечённое из собственноручных Мемуаров короля. Книга эта стала интереснейшим и очень ценным материалом. Она изумительно написана во всех частях, не приписанных авторству Иакова. Жизнеописание... осталось едва ли ни единственным смотровым окошком в интересующий нас период прошлого времени. В нём процитирована или изложена в сокращении часть оригинальных мемуаров. Остальные страницы отданы взглядам католиков-якобитов, изгнанников, кто служили при сен-жерменском дворе в первой декаде восемнадцатого столетия. События изложены так, как их видели, желали видеть, или воображали в Сен-Жермене.
Нам безо всякого замешательства рассказывают, как, в 1669 году, Иаков - тогда герцог Йоркский - выработал план насильного обращения английского народа в римскую веру; о договорённостях с Людовиком, о французских деньгах; о том, что морские порты необходимо передать надёжным папистским губернаторам, о тайном комплектовании вооружённых сил папистами, о контроле над армией, об осторожных уступках Карлу II; о долгих, настойчивых, не мытьём, так катаньем, усилиях в течение двадцати или около того лет - всё это беззастенчиво представлено деяниями замечательной доблести. Бесстыдное, вероломное нарушение всех обязательств, что может дать человек; законов Англии, прав подданных, всех нескончаемых обетов и деклараций от имени государства и короля; вопиющее, полное пренебрежение истинными принципами секретной политики Карла, насколько мы их понимаем - всё это объявлено похвальными делами.
Вернёмся к источнику в Скотс Колледже, в Париже; источник этот струился, не пересыхая, всё восемнадцатое столетие и именно туда, время от времени, ходили некоторые избранные персоны: глотнуть, напиться и даже унести с собой стакан-другой.
Первым из них был добросовестный исследователь, Томас Карт, священник англиканской церкви, верный приверженец дома Стюартов, опубликовавший в 1736 году в Англии Жизнь герцога Ормонда. Затем он стал собирать материалы для истории Англии после Кромвеля, чтобы поспособствовать реставрации Стюартов. Он позаботился о покупке бумаг Дэвида Нэрна - человека, кто служил помощником секретаря при Иакове II в его изгнании и, впоследствии, получил занятие при дворе королевы. Затем, Карт испросил разрешения на выписки из бумаг Иакова в Скотс Колледже. Разрешение было дано ему в письме от 10 января 1741 года, отправленном из Рима некоторым Джеймсом Эдгаром, секретарём Старого претендента.
Королю благоугодно, гласило письмо
дать настоящим письмом указание господину Инессу, чтобы тот разрешил вам внимательно прочесть в стенах Скотс Колледжа в Париже полную Жизнь покойного короля, написанную мистером Диконсоном по королевским приказам[272], все материалы коей извлечёны и основаны на рукописях покойного короля.
Выписки, сделанные Картом в архивах Скотс Колледжа, стали должным образом опубликованы. Оригиналов выписок не обнаружено в бумагах Карта, и историки спорят о том, пользовался ли Карт самими мемуарами или Жизнью....[273] Сам он не успел закончить историю, но перед кончиной, в апреле 1754 подарил Бодлианской библиотеке Оксфорда два первых выпуска - в тридцать и двадцать шесть томов соответственно - рукописей, собиранию коих посвятил большую часть жизни. Остаток своей коллекции Карт оставил жене. В 1757 она отослала Бодлианской библиотеке ещё девять томов, а остальное завещала второму мужу, мистеру Николасу Джернегану, с условием передачи в Оксфорд. Джернеган продал право на пользование этими документами за 300 фунтов некоторому Джеймсу Макферсону, кто использовал бумаги в изданном им сочинении: Подлинные документы о тайной истории Британии от реставрации до взошествия ганноверской династии. В 1778 году Джернеган продал право на пожизненное пользование коллекцией Карта Оксфордскому университету за 50 фунтов; вся масса документов, вместе с прежними дарами составила около 250 томов и упокоилась на хранении в Бодлианской библиотеке. Среди этого материала есть семь томов, обыкновенно называемые Бумагами Нэрна. Ниже мы скажем о них подробнее.
Бумаги Нэрна; затем, фрагментарные выписки, из, как то предполагают, мемуаров Иакова; и, наконец, Диконсонова Жизнь Иакова под редакцией Кларка - воистину, это немногие источники знаний обо всех тех сделках и сношениях, какие - как утверждают - вели министры, офицеры и моряки Вильгельма III с Сен-Жерменом; три названных свода - единственное основание истории тех времён, выстроенной Маколеем и иными авторами. И три этих источника исходят, без сомнения и в основном, из одного-единственного. Жизнь, как утверждается, извлечена из мемуаров. Поступки и происшествия в бумагах Нэрна, и великие, и малые, в точности, но со смещёнными акцентами на значения тех или иных эпизодов, фигурируют и в Жизни. Очевидно, что Диконсон, работая над переделкой мемуаров короля в Жизнь Иакова II, имел перед глазами эти бумаги.
Когда историк Юм приехал в Париж как секретарь посольства Англии, он, пусть и протестант, но знаменитая персона, был допущен к документам Скотс Колледжа: возможно, впрочем, что к тому времени архив уже перестал быть ревностно хранимым секретом. В издании своей Истории 1770 года, Юм добавляет следующее примечание:
Учёный и добросердечный принципал Скотс Колледжа разрешил мне изучить хранящиеся у него мемуары короля Иакова. Они собраны в несколько томов малого фолио, все написаны собственной рукою принца, включают примечательные события его жизни, от самых юных лет, до почти самой смерти.
Общепринято и не обсуждается то, что Юм читал манускрипты самих мемуаров, а не Жизни. Но он не оставил выписок. Он исследовал материал, но не вёл записей.
Мы вкратце коснёмся работ Джеймса Макферсона и отринем их, как материал неуместный и ненужный для наших целей. Этот джентльмен, торийский член парламента, платный лоббист короля Георга III, купил у мистера Джернегана доступ к коллекции манускриптов Карта, прочёл их, состряпал экстракт собственного производства из Жизни, хранившейся в Скотс Колледже и, в 1775, опубликовал свои так называемые Подлинные государственные документы. Макферсона обвинили в подтасовке материалов и предубеждённом отношении к вождям 1688 года, тем более что его поведение в истории с поэмами Оссиана - другое литературное предприятие Макферсона показало способности автора в умышленном, трудолюбивом и тщательном производстве подделок. Определённо, он ввёл читателя в заблуждение, назвав бумаги Нэрна подлинником и говорил неправду о Жизни как о собственноручных записках короля.
Знаменитый мистер Фокс, занимаясь историей Иакова II, живо заинтересовался поднявшейся полемикой и, одним из первых, дал ответ по сути спора. В 1802 году, во время кратковременного Амьенского мира, он посетил Париж, лично разыскал руководителей Скотс Колледжа и очень скоро убедился, что Макферсона справедливо обвиняют как минимум в одной лжи.
Что касается извлечений Карта писал он
я не сомневаюсь в их точности; но здесь необходимо сделать замечание, касающееся всех материалов, как Карта, так и Макферсона: при пристальном изучении выясняется, что последние - жульничество, столь же нахальное, как и Оссиан.
Извлечения очевидным образом сделаны не из журнала, но из пересказа; теперь я несомненно выяснил, что в Скотс Колледже хранились две разных рукописи, одна - собственноручно написанная Иаковом - состояла из сшитых вместе листов разного размера, а вторая, своего рода историческое повествование, стала скомпилирована из первой. Мне определённо сказали, что материалы, выбранные для второй рукописи, подверглись правке и корректуре, как то счёл нужным Драйден, поэт (возможно, имеется в виду Чарльз Драйден, сын великого поэта) и в Колледже неизвестно, была ли эта работа сделана при жизни Иакова, либо по распоряжению сына его, Претендента. Я сомневаюсь в том, видел ли Карт когда-либо подлинник журнала, но неоспоримо узнал от должностных лиц, что Макферсон не видел его никогда; но если прочитать его предисловие, страницы 6 и 7 (прошу непременно к ним обратиться), всякий вообразит, что Макферсон не только тщательно изучил журнал, но, во всяком случае, сделал из него там, где не из Карта - все свои извлечения. Наглость, с какой Макферсон попытался устроить это жульничество, при том, что уличить его может едва ли ни всякий, стала бы невозможной ни в одном другом человеке: весомые показания ответственных персон Колледжа лишь подкрепляют обвинительное свидетельство, содержащееся в самих извлечениях Макферсона.[274]
Некоторые специалисты, отказывая Макферсону во всяком доверии, предположили, что он подделал бумаги Нэрна, получив их во временное распоряжение. Но мы располагаем некоторыми указаниями на то, что ряд лиц видели эти материалы прежде, чем они попали ему в руки или, по крайней мере, до публикации 1775 года.[275]
Тем самым, мы можем ограничить рассмотрение бумагами Нэрна из коллекции Карта и Диконсоновой компиляцией из рукописей Иакова и, без дальнейших комментариев, выпроводить Макферсона со страниц нашего повествования.
Мы привели здесь массу подробностей, фактических и спорных лишь ради того, чтобы отмести всё наносное с исторической действительности. Разыскания среди бумаг Стюартов в Виндзоре, проведённые с милостивого разрешения царствующего ныне его величества, обнаружили письмо - никогда не публиковавшееся и даже не упоминавшееся историками двух последних столетий. Письмо написано в 1740 году мистером Томасом Инессом (или Инесом), кто стал вслед за братом, Луисом Инессом, принципалом Скотс Колледжа: Инесс пишет известному нам Джеймсу Эдгару, секретарю Старого претендента: выше мы цитировали его ответное письмо от 10 января 1741 года. Ввиду сугубой важности этого документа для дальнейшего мы перепечатываем его дословно.
Париж.
17 октября 1740.
Достопочтенный сэр,
В последнем моём письме от 11 числа текущего месяца, я ограничился докладом о работе мистера Карта над копированием подлинных мемуаров покойного величества, оставив подробный отчёт для короля до окончания работ мистером Картом, но работа над копией затянулась сверх моих ожиданий, так что я не могу медлить долее.
Прежде всего, судя по тому, что его величество дал мистеру Карту особую привилегию, позволив использовать подлинники, его величество ожидает получить безукоризненные копии названных мемуаров. В настоящее время оригинальные мемуары написаны, во-первых, на листах разного размера на тех, что имел под рукою его покойное величество во время своих кампаний и в местах, где ему случалось оказаться; затем, записки оставались сложены безо всякого порядка пока мой брат, по приказу его покойного величества, не упорядочил их, и не переплёл в три тома, снабдив ссылками на соответствующие эпизоды. Помимо этого, некоторые места по прошествии времени и из-за плохих чернил почти нечитаемы, так что мистер Карт время от времени серьёзно озадачивается, пытаясь разобрать текст. Чтобы помочь делу, считаю полезным передать ему имеющуюся у нас хорошую копию мемуаров, заканчивающуюся, как и оригинал, временем реставрации в трёх томах ин-кварто; на первом томе указанной копии стоит следующая заметка, оставленная рукою моего брата [Переписано в 1686 году в три тома ин-кварто с подлинных королевских мемуаров мистером Драйденом, знаменитым поэтом, впоследствии проверено и в некоторых местах собственноручно исправлено его величеством].
Помимо этой надписи, на копии мистера Драйдена имеются и иные пометы, из коих следует, что в году изготовления копии, именно в 1686-м, работа была готова к печати и, возможно, стала бы напечатана, когда бы в скором времени не случилась несчастная революция.
Названная копия имеет самостоятельную ценность, ибо исполнена под присмотром его покойного величества, и, несомненно, все её расхождения с оригиналом сделаны по распоряжениям или самим покойным величеством. Помимо нескольких слов и выражений, написанных собственной рукой его покойного величества, главное различие между копией и оригиналом в том, что в оригинальных мемуарах его величество всегда говорит о себе в третьем лице, например: герцог Йоркский родился 14 октября 1633 года; а в копии мистера Драйдена он всегда выражается от первого лица, то есть: я родился 1 октября и так далее и тому подобное и то же при упоминаниях битв, осад, походов, где он побывал.
Почитаю обязанностью самого мистера Карта детальный отчёт о копировании или извлечениях из мемуаров покойного короля, над коими он работает теперь, и о дальнейших его планах по использованию этого материала; нам приказано лишь передать ему в точности то, что значится в его ордере и не более. Поэтому, хотя мы и располагаем подлинными бумагами и письмами покойного короля, написанными после реставрации, как то указано в различных описях, предоставленных его величеству моим братом и мной, ничто из этого не будет передано ни мистеру Карту, ни кому-либо другому, пока они не предъявят точного письменного распоряжения его величества.
С такими же осмотрительностью и скрытностью мы храним два труда, сделанных по специальным распоряжениям ныне здравствующего величества, именно: жизнеописание покойной королевы-матери, написанное отцом Гейлом, ныне покойным, и полное описание большей части жизни покойного короля, написанное мистером Диконсоном по мемуарам, письмам и бумагам покойного его величества, относящимся к временам до и после реставрации; равным образом, мы храним и два ящика с бумагами его величества - мистер Диконсон держал от них ключи, полученные после кончины королевы-матери, в чьём шкафу названные бумаги были найдены и уложены в два ящика покойным ныне графом Мидлтоном, мистером Диконсоном и другими комиссарами, назначенными по этому случаю его величеством.
Я позволил себе вдаться в такие подробности с целью напомнить его величеству о тех дополнительных материалах, какие - при потребности - могут быть немедленно предоставлены для работы. Прошу вас уверить его величество в моей наилучшей преданности & глубочайшем почитании и уверяю вас, достопочтенный сэр, что вы всегда найдёте во мне самого послушного и обязательного слугу.
То. Инес.[276]
Итак, перед нами факт, подкреплённый безупречным и ответственным специалистом: Иаков закончил мемуары годом реставрации - 1660-м. Дальнейшая часть Жизни составлена мистером Диконсоном через несколько лет после смерти короля Иакова. И все споры о том, видели ли Карт, Макферсон, Далримпл, или Юм мемуары или Жизнь не имеют никакого отношения к развёртывающейся пред нами исторической драме.
Личное ручательство Иакова - написаны нами собственноручно - утеряло силу за тридцать с лишним лет до событий, имевших касательство к поведению Мальборо и иных вождей революции. И мы имеем дело не со свидетельством опального короля, жившего в средоточии описываемых им самим событий, но лишь с утверждениями мистера Диконсона, человека без собственных знаний о том, что имело место на самом деле; мы имеем дело с историей критического периода, написанной через пятнадцать-двадцать после описанных событий. Маколей выстроил десятки страниц своей Истории на Жизни... Иакова. Он переписал и переложил взятые оттуда обвинения против Мальборо и иных с присущим ему даром неподражаемого рассказчика. Даже такой дружелюбный биограф, как Уолсли, покорно принимает Жизнь... за собственноручную работу Иакова. На деле и друзья, и враги опираются не на современные мемуары короля Иакова, но лишь на работу мистера Диконсона. А Диконсон жил среди изолированной группы якобитов, кто - по любой причине, присущей сердцу человеческому - ненавидели и злословили в адрес лидеров английской революции; и из всех этих лидеров, более всего - в адрес Мальборо, кто, во времена работы Диконсона над Жизнью... вознёсся до вершин своей карьеры. И тем не менее, всё, что Диконсон выбрал для своей истории, почитают за современные свидетельства короля Иакова, за чистую правду. Вот на каком зыбком основании некоторые величайшие, блестяще эрудированные учёные и авторы, писавшие на нашем языке, возвели огромную конструкцию клеветы и искажений, что до сих пор сходит за историю.
В 1704 году, на некоторое время, Диконсон получил в распоряжение собственноручные мемуары Иакова II, доведённые королём до 1660 года, и документы, составившие коллекцию Нэрна; возможно, и иные документы, о которых нам не известно ничего. Он, очевидно, получил власть выписывать или упускать или изменять материал по собственному разумению, выстраивать по собственному выбору и изобретать или добавлять то, что считал желательным. Иаков был мёртв; два его государственных секретаря, Мелфорт и Мидлтон были мертвы; Нэрн был мёртв; но жив был он, якобитский клерк, оказавшийся при путаных бумагах, с бесценными, но неподходящими ему рукописными записками короля, утраченными теперь навсегда.
Мы подошли к несчастливейшему и откровенно сомнительному периоду жизни Мальборо. Грешки юности, щепетильные дела на службе у герцога Йоркского, изменническое письмо принцу Оранскому, солсберийский побег от Иакова для всего этого находятся либо извинения, либо оправдания. Несомненно, что в истории с Иаковом Мальборо действовал сообразно своим политическим и религиозным убеждениям: более того, он преследовал и долговременные интересы Англии. Но даже это навлекает на него наветы.
Лорд Черчилль - сурово пишет Юм
поднялся из пажей, его возвели до высокого военного звания, сделали пэром; он был обязан благоволящему королю всей своею фортуной; но даже он, попав в отчаянные обстоятельства тех дней, решил покинуть несчастное величество, кто всегда и всецело полагался на него. Поступок его стал вопиющей жертвой: все принципы частного человека были отброшены в угоду общественному долгу; с тех пор он должен был вести себя с безукоризненной честностью, бескорыстием, патриотизмом чтобы заслужить оправдание.[277]
И всё же мы обязаны описать, как Мальборо оппонировал королю Вильгельму и интриговал с королём Иаковом многим кажется, что в этом жизненном эпизоде он перечеркнул недавнее своё прошлое, лишив его всякого нравственного оправдания, предоставив бесконечному числу недоброжелателей право выбора любого оружия из арсенала негодующей нравственности или неуёмной злобы. Но эту полосу жизни Мальборо нельзя рисовать двумя красками чёрной и белой. Мы бродим по миру серых теней: расплывчатых и загадочных; одна тень переходит в другую, одна выходит из другой. Простое перечисление фактов и сведений не даёт верного зрения, здесь нужно понять дух времени. И чтобы дать обсуждаемому предмету должное толкование, мы обязаны разобраться в полутонах, уловить нечёткие очертания. Наконец мы должны, зная меру, судить дела тех дней по правилам тех дней - и они отличны от тех, что установлены для дней сегодняшних. Мы не стремимся к категоричным утверждениям. Наша задача - отринуть ошибочные или преувеличенные негативные оценки, отделить порицание от ханжества, очистить предубеждение от злобы, разоблачить фальшивки. И мы вполне осознаём, что когда работа наша будет исполнена и всякое слово - сказано, мы и тогда не добьёмся полного оправдания.
При обсуждении личности Мальборо неизбежно встаёт вопрос: что было главной подоплёкой его поступков, один ли голый эгоистический интерес? Резонное преследование собственной выгоды ничуть не порок, ни частный, ни социальный. И, не греша аффектацией, не стоит притворно возглашать, как некоторый государственный деятель или офицер, заслуживший место в истории, пренебрегал собственными карьерными продвижениями, молча сносил обиды, и руководствовался в служении обществу одним лишь альтруизмом. История верно обращает порицание на тех, чьё своекорыстие принимает формы холопства или свирепости, чей эгоизм подминает иные интересы человеческой натуры. Но - по духу того времени - в поведении Мальборо нет ничего ложного или необыкновенного: он, как большинство англичан, как все деятели революции стал отстранён от участия в работе нового правительства; персона его была неприятна Вильгельму; он не мог упустить из виду, что якобитская реставрация становится всё более возможным делом и должен был думать о личной подстраховке на такой случай. Судить надо иначе: повредил ли Мальборо, намерением или поступком, делу протестантизма и конституционной свободы, и, прежде всего, как его действия сказались на безопасности Англии, на жизнях британских солдат и моряков? По этому пути мы и направим рассуждения читателя.
В те времена конфиденциальное общение между главными персонажами противоборствующих сторон; сношения, шедшие через границы враждующих государств, через фронты воюющих армий, были делом нередким. Вельможи и на бранном поле оставались при лоске церемонных учтивостей. Обмен пленными и заложниками проходил по выверенным кодексам, блюдущимся с видимой, добросердечной готовностью. Привилегированные лица получали пропуска для проезда по вражеской территории. Во многих поручениях принимали участие фанфарщики, свободно ходившие между армиями. Многие противники были союзниками в прошлых войнах. Многие вожди - теперь неприятели - оставались природными, кровными родственниками или свойственниками. Королевские дома тесно переплелись в брачных союзах, и семейные узы в некотором смысле существовали вопреки политическим антагонизмам. Английские якобиты составляли многочисленную и влиятельную силу. Они образовали точно очерченную, мощную партию, в лоне коей вздымались и ниспадали нескончаемые конспирации, имевшие целью вернуть законного суверена. Власти никак не преследовали подобных настроений. Якобиты могли открыто выражать мнение. Они были обыкновенной политической партией, с клубами и приверженцами; с законопослушной аристократией на партийных высотах; и партия их распространялась вниз, по всем ступеням неудовольствия, до самого дна, где обретались фанатики, люди насилия; законченные убийцы. Якобитские круги прорастали в обыденную жизнь всякого сословия бесконечными связями-мостиками, без единого непроходимого разрыва - но то были скользкие тропки. Король Иаков с семейством прозябали в приживалах при троне Людовика. И они, и их двор в изгнании, и горстка бежавших ирландских солдат с гвардейцами, и министры без страны, но со всяким должностным персоналом все зависели в куске хлеба от щедростей и поворотов политики французского покровителя. Людовик тешил тщеславие, удерживая при себе монарха-божедома. Он воздал ему полной мерой недорого стоящего рыцарства и жаловал из жалости. Время от времени сентиментальное чувство к брату-монарху, оскорблённому не только в католической вере но и в принципе Божественного права, брало над Людовиком верх и он заходил в этом чувстве дальше, чем того требовали интересы Франции. Но такое случалось нечасто: Людовик был хладнокровный правитель. Изгнанники в Сен-Жермене зависели от некоторого собственного значения, собственной пригодности в качестве орудия континентальной французской политики. И это значение, такая пригодность имела точную меру прочность, действенность их связей в Англии. Итак, беженцы желали и, несомненно, были вынуждены всячески преувеличивать важность и интимность своих связей с Британией, уверяя Людовика в жизнеспособности якобитского дела. В первую руку, изгнанники обязаны были убедить и расщедрить французского короля на флот, чтобы добраться до Англии и на армию, чтобы восстановить на троне Иакова. Немудрено, что бедствующие беженцы неустанно твердили французскому правительству о своих более чем прочных отношениях с ведущими деятелями Англии, в особенности с советниками короля Вильгельма.
При любом случае они входили в сношения с английскими якобитами и их друзьями, истинными или мнимыми, что жили на другом берегу Канала. Они по-своему толковали любую новость, готовили её, сервировали и скармливали чаще, чем того требовало приличие французским министрам. Они рисовали картину воображаемой Англии, что ждёт их возвращения и готова восстать, когда представится удобный случай. А случай этот представится, если французы дадут армию и корабли. И как только изгнанники высадятся, дело пойдёт. Но французские министры отвечали в скептическом духе - они черпали информацию из многих источников и выработали иную точку зрения.
Такое положение дел задержалось надолго. Туда и обратно, через Канал сновали хлопотливые курьеры и шпионы якобитской партии; за год, прошедший от высадки Вильгельма, лидеры революции - бывшие придворные и слуги короля Иакова - и новый центр в Сен-Жермене восстановили некоторый род связей. Опальные чиновники обсуждали и перетолковывали доклады тайной агентуры, нескончаемый поток донесений, слухов и сплетен, шедших из-за Канала. И счастьем было услышать любую весть, что могла укрепить веру Людовика в действенность и пылкий дух якобитской партии в Англии и Шотландии. На приёме подобного рода заказов обретался граф Мелфорт, брат Перта, человека, проклятого в Шотландии за прошлые жестокости. Офис Мелфорта стал фабрикой лучезарных докладов, состряпанных из вкусных кусочков информации для вящего убеждения короля Людовика, для удовольствия короля Иакова. Уже в 1689 году Иакову доложили, что Мальборо недоволен новым режимом и хотел бы помириться с прежними друзьями. Затем в сведениях из Англии не появляется ничего определённого о Мальборо, никаких утверждений; молчание длится до начала 1691 года, а потом в Париж поступают доклады от трёх якобитских агентов: мистера Балкли, полковника Саквиля и мистера Флойда или Ллойда о разговорах как то заявлено состоявшихся между шпионами и адмиралом Расселом, Годольфином, Галифаксом и Черчиллем.[278] Диконсон приводит подробное изложение этих донесений в Жизни.... По его выпискам, все перечисленные советники короля Вильгельма приняли, даже пригласили к визиту и для беседы якобитских агентов, что вполне может быть правдой. Но разговоры эти, в изложении Диконсона, и злонамеренны и абсурдны.[279] Маколей выстраивает своё замечательное повествование именно на этом фундаменте, прочность которого мы успели проверить. Поведав об успешном совращении Рассела и Годольфина, он переходит к Мальборо:
Но все агенты изгнанного двора обходили за версту солсберийского дезертира. Казалось, что та постыдная ночь навсегда развела его с королём, коего он привёл к гибели. Иаков, в самой крайности, когда армия бежала, когда всё государство поднялось против него, провозгласил, что никогда не простит Черчилля, никогда, никогда. Все якобиты особо ненавидели Черчилля, считая последнего первейшим негодяем среди всех предателей столетия, выражаясь о том в стихах и прозе, как можно судить по ежедневным выпускам их подпольной печати.
Но сей великий грешник с успехом противится таковому отлучению от грядущего фавора:
Тогда он вымолил встречу с полковником Эдвардом Саквилем. Саквиль был поражён, и никак не обрадован таким известием... Он, несгибаемый роялист, не без отвращения переступил порог презренного дезертира. И самоотречение его стало вознаграждено искусным спектаклем: полковник не видывал прежде зрелища таких покаянных мук. Умолю ли вас - сказал Мальборо - стать моим посредником пред королём? Умолю ли сказать ему, как я страдаю? Теперь я вижу всю мерзость своего преступления; я содрогаюсь в ужасных раздумьях. Я думаю о том денно и нощно. Я сажусь за стол - и не могу есть. Я бросаюсь на кровать - но сон нейдёт ко мне.
Впрочем, судя по всему, он вполне был способен если не есть, то пить - по крайней мере, до января 1690 года: французы сохранили сведения из схожего источника о том, как он, Шрусбери, Годольфин и двое-трое других участвовали в питейной ассамблее у Вильгельма, пили за здравие монархии, за английскую церковь, за покорение Ирландии и вторжение во Францию. A la fin ils se soulerent de telle maniere quils ny en eut pas un qui ne perdit toute connoissance.[280] (В конечном счёте, они напились так, что ни один не остался при здравом рассудке)
Маколей вынуждает Мальборо продолжать: Я готов пожертвовать всем, рискнуть всем, стать нищим, отдав всё, что имею, если смогу тем облегчить страдания истерзанной души.
До сих пор Маколей выражается красноречивее Диконсона. Но и книга Диконсона имеет несомненные достоинства. Мы находим в ней экклезиастический вкус. Черчилль принимает облик великого грешника на покаянии. Он умоляет его [Саквиля] пойти к королю и поведать о горчайших страданиях; он просит о посредничестве, взыскует прощения; говорит, что вполне искупил отступничество крахом всей своей жизни, и преступления так мучают его, что он не может ни есть, ни спать, но только безгранично терзается. и так далее в том же смысле.
Затем Диконсон пускает вскачь воображение. Полковник Саквиль - говорит автор:
... немедленно решил поймать его [Мальборо] на горячем и стал допытываться: готов ли тот рассказать всё, что знает, удостоверив тем свою искренность и что осмелится [пообещать]... Милорд ... без малейшего замешательства дал полный отчёт обо всех силах, приготовлениях, планах, как в Англии, Шотландии так и в Ирландии, куда, если французы не станут чрезмерно давить на конфедератов во Фландрии, намерен идти сам принц Оранский; и принц надеется управиться с Ирландией в самом скором времени, чтобы уже в эту кампанию успеть к армии в Нижних странах; затем, он дал подобный отчёт о флоте; короче говоря, раскрыл все предполагаемые действия на суше и на море, и то, что его информация соответствовала сведениям из других рук, стало весомым аргументом в пользу его искренности; ... он просил инструкций, чтобы служить наилучшим способом, никак не входя в секретные намерения короля, поскольку после всех совершённых им предательств - что совершенно справедливо - он не может ожидать подобного к себе доверия... он предложил перевести на сторону короля английские войска во Фландрии, если король того потребует, но добьётся лучшего, если станет действовать в согласии со многими другими, кто вынашивает те же замыслы, именно, попытается на следующей парламентской сессии добиться удаления всех иностранцев из королевства: тем самым на остров будет стянуто больше английских войск и тогда он использует своё влияние с лучшим намерением... он советует ему [Иакову] не высаживаться со слишком многочисленной армией; что до французских войск, говорил он, люди тому ужаснутся, тем не менее, необходимы подобающие силы; ... с его стороны нечестно претендовать на доверие, а король слишком мудр, чтобы довериться тому, кто прежде выказал вопиющее вероломство, ... он выглядел как самый заботливый радетель об интересах короля, как человек, претерпевающий глубочайшее в целом свете раскаяние, говорил тысячи слов об ужасе предательства против лучшего из королей,[281] и что ему невозможно будет найти покою, пока он не предпримет некоторых дел во искупление, потщась (пусть и с крайней опасностью для жизни) восстановить на престоле опального принца и возлюбленного господина... Он с удовольствием отдаст жизнь, если сумеет тем исправить причинённое им зло... теперь он всецело вернулся к требованиям долга, и так любит его величество, что готов с радостью по единому слову бросить жену, детей и страну чтобы вернуть и удержать за собой королевское уважение...
Здесь автору перестаёт верить даже Маколей - и, использовав в полной и самой оскорбительной мере процитированные выше абсурды, он отталкивает кормящую руку Диконсона, из коей питался только что и со смаком. Он говорит нам с некоторой обидой:
Правда в том, что когда Мальборо рассказывал якобитам о чувстве вины, что не даёт ему вкушать пищу днём, и спать ночью, он, попросту, смеялся над ними. Потеря полугинеи испортила бы ему аппетит и расстроила сон куда сильнее, чем все угрызения нечистой совести.
Разумеется, никто не знает, что в действительности сказал или не сказал Мальборо. Диконсон единственный авторитет выписал то, что посчитал нужным из доносов якобитских агентов пятнадцатилетней давности. Всё это односторонние утверждения. Сам Мальборо никак не помогает нам; он не видит никакой нужды в подобных объяснениях.
Насколько Мальборо обманывал якобитских агентов пылкими словами и истовыми уверениями? насколько агенты хвалились размерами рыбы, попавшей им в сети? насколько Мелфорт и Нэрн, люди, ответственные за сбор разведывательной информации приукрасили полученные сведения? всё это тайны; но в случае с Мальборо (равно как и с Годольфиным, Расселом, Шрусбери и другими) мы, определённо, имеем дело с двумя сторонами: на одной важные персоны Англии, желающие, чтобы Сен-Жермен помнил о них и не слишком ненавидел; на другой несчастный изгнанник, кто не имеет средств для мести, и материально зависит от дружеских авансов подобного рода.
Сношения Мальборо с якобитским двором, с сыном сестры герцогом Бервикским, с сыном Иакова, Старым претендентом, нисколько не были разовой интригой, но частью единой системы. Это была не больше и не меньше политика Мальборо, длиною в его жизнь; он следовал ей четверть века. При короле Вильгельме политика эта не нашла отражения в переписке, но только в сообщениях и разговорах, в обещаниях и уверениях бессчётных, зачастую сфабрикованных, но некоторые из этих сведений не вымышлены от начала до конца и имеют вид частичной истины.
Первоначально, Мальборо, как и другие вожди революции, стремился получить от изгнанника официальное прощение на неприятный, но, несомненно, возможный, случай реставрации. На этой стадии сношения английских персон с Парижем не были для Вильгельма секретом и даже шли с его молчаливого согласия. Выразительное место из мемуаров Эйлсбери:
Определённо, король [Вильгельм] дал графу Мальборо, милорду Годольфину, герцогу Шрусбери и адмиралу Расселу свободу писать в Сен-Жермен милорду Мидлтону. Они воодушевили короля перспективами великой выгоды, что воспоследует за такими сношениями, и я, к стыду своему, сам в это поверил. Затея была подана под правдоподобным предлогом: обманываемый милорд Мидлтон никогда бы не знал актуальных английских секретов, в то время как названная четвёрка тянула бы из лорда Мидлтона всё, что знал тот; главою этого предприятия был, несомненно, наш знаменитый министр [Сандерленд] - но его никогда не упоминали... Четыре лорда приобрели значение, выведывая и зная все секреты Сен-Жермена; лорд Мидлтон, войдя в переписку с ними, приобрёл положение человека, осведомлённого в лондонских делах; а несчастный принц, король Иаков, вовлёкся в эту затею, несмотря на все протесты, призывавшие его раскрыть глаза на истинное положение дел.[282]
Возможно, Эйлсбери заходит дальше, чем то было на самом деле; и, тем не менее, Вильгельм наблюдал за интрижками с Сен-Жерменом со старанием разбираться и воздавать по справедливости. Что касается мятежников в Нортхемптоншире писал он 15 июля 1694 года припоминаю, что недавно был уведомлен о примирении лорда Монмута[283] с Сен-Жерменом. Не полагаясь на уверения, вы должны, по возможности, расследовать, насколько он лорд-лейтенант графства подстрекает или как-то сообщается с указанными мятежниками; не откажите, также, сообщить мне, стоит ли подыскать иного человека на его место.
Мы видим, как король, персона наиболее затронутая интригой и наилучшим образом информированная, проводит чёткую границу между помирился с Сен-Жерменом и явно незаконными действиями. Шрусбери отвечает (17 июля 1694):
Не могу дать определённого ответа в том, что было угодно узнать вашему величеству касательно милорда Монмута, его примирения с Сен-Жерменом. Естественно, что человек, весьма провинившийся перед одной из сторон, не желает выглядеть так же перед другой; но, осмелюсь сказать, позвольте ему делать всевозможные авансы подобного рода, предоставив, одновременно выгоду в работе на правительство вашего величества: тогда он, безусловно, предпочтёт последнее любым изменениям; в настоящее время он, сверх всякого воображения, замечательно расположен к любым делам на службе вашего величества и я не думаю, что теперь стоит лишать его наместничества; что до его участия в беспорядках в Нортхемптоншире, осмелюсь сказать с уверенностью, что это было одно лишь мимолётное возмущение толпы, случившееся из-за продажи зерна в больших количествах вне города, теперь всё спокойно, и не требует никакого вмешательства: достаточно одних действий магистрата.[284]
Приведенный выше обмен письмами открывает нам истинное значение тогдашних интриг с Сен-Жерменом куда яснее, нежели все диатрибы историков. В глазах самого короля и высокого круга у трона, одно только примирение с Сен-Жерменом - пусть с ними помирился и наместник в графстве - не повод для обвинения в измене; более того, это не бесчестный поступок так поступил, ради самосохранения, почти каждый из важных людей Англии. Мы не имеем намерения оправдывать такое поведение, мы только показываем положение вещей в те грозные дни с их трагическими политическими поворотами.
В царствование Анны подобные интриги перешли в сферу военных уловок: например, в 1702 году, вышедший на поле Мальборо, активно тревожил французов, провоцируя их на генеральное сражение и, приняв в лагере якобитского посла, передал ему некоторое послание, туманно-бессмысленное или обещающее каждый мог трактовать его на свой лад; так было и в 1708, когда Мальборо с чрезвычайными военными трудностями осаждал Лилль и, одновременно, вёл с герцогом Бервикским, возможно с ведения пенсионария Гейнзиуса, долгую и оживлённую переписку о начале мирных переговоров. В дальнейшем мы вернёмся к этим эпизодам.
Но самая примечательная иллюстрация к обстоятельствам этой, второй фазы отношений с якобитами, обнаруживается в бумагах Нэрна в Бодлиане. Это письмо написанное, судя по всему, Мидлтону, из Лондона, якобитским агентом Хуком в апреле 1704 года. Мальборо готовился отплыть в Голландию, держа в голове тайну задуманного марша на Дунай. Он разрешил Хуку придти и повидаться с ним; состоялся весьма дружеский разговор.
За несколько дней до отъезда в Голландию, лорд Черчилль отыскал меня, и дал так много обещаний, с такими уверениями о верности его намерений, о желании возместить очень давний долг перед вашими друзьями, что я не сомневаюсь в его искренности. Он видимо поражён тем, что герцог Бервикский был послан в Испанию и до сих пор занят делами за границей, и спросил меня, как мы могли согласиться на такое. Я объяснил, что получил ваше объяснение на сей предмет: назначение герцога на столь ответственный пост станет наилучшей выгодой для нашего общего дела. Я, впрочем, понял, что, по его мнению, нам было бы куда полезнее оставить герцога на том театре, где он действовал в прошлом году. Он указал, чтобы я не стеснялся его отсутствием, но ходил бы к лорду Годольфину и спрашивал бы его обо всём важном, что желательно знать вам и вашим друзьям.
Мистер Флойд, искренне преданный вашим интересам, также видел лорда Черчилля несколько времени тому назад и очень просит передать вам что сей вельможа дал ему всяческие обещания и уверения в том, что может исполнить во искупление своей вины. Итак, на сегодняшний день я получил лучшую прежней уверенность в том, что дела наши пошли в гору; а разногласия, существующие здесь между лидерами партий, немало укрепляют меня в том мнении, что стоит надеяться на лучшее.[285]
Читатель непременно заметит, что в этой беседе именно Хук - судя по его наивному отчёту - дал или подтвердил ту ценную информацию, что Бервик командует в Испании, в то время как Мальборо не открыл ему в ответ ровным счётом ничего. Но Хук с удовольствием отправил в Сен-Жермен отчёт о сердечном приёме со стороны великого человека; о том, как - в отсутствие последнего - он будет, время от времени, навещать Годольфина, сообщая тому интересные новости из Сен-Жермена.
Характерно, что Макферсон опустил этот документ, опубликовав всё прочее, что нашлось о Мальборо в бумагах Нэрна. Но именно это письмо более всякого другого свидетельства открывает, каким - единственным, по нашему мнению, способом - Мальборо и английские министры сообщались с Сен-Жерменским двором: именно, посредством изустных бесед, записываемых после, по памяти, якобитскими агентами. Это объясняет полное отсутствие каких-либо собственноручных писем в архивах короля Иакова. Это даёт объяснение и многому другому. Помянем долгую историю сношений Мальборо кажется, самых лицемерных в его жизни с Сен-Жерменом, когда герцог пытался наладить некоторые дружественные отношения со Старым претендентом, Иаковом III. Помянем и постоянные великие любезности и изъявления преданности, адресованные королеве в изгнании. Здесь всё озадачивает, всё здесь обманчиво, перемешано: ложь и правда, достойные сожаления поступки и жульничество; мы имеем дело с некоторой тщательно отмеренной двойной лояльностью. Подумаем о том, как важно было обнадёживать людей Сен-Жермена так, чтобы они докладывали Людовику XIV о тесных, секретных, постоянных отношениях с командующим вражеской армии. Эмигранты принимали это с готовностью и благодарностями. Это была настоящая служба. Это ничего не стоило. Это создавало обстановку неопределённости. Французское правительство, живо заинтересованное переговорами Бервика о мире, вполне могло промедлить с дальнейшими мерами по обороне цитадели и города Лилля. Это было частью военной работы Мальборо, частью его системы. А потом, через месяц или через неделю он бил форсированным маршем или внезапной атакой из-под покрова медоточивых слов, лицемерия, оборачивая дело к своей пользе. Паутина интриг, обманы, обманы обманывающего, выдумки, уловки; улыбки, комплименты, кивки, поклоны, шепотки и удар! Внезапный поворот, жестокое, решительное военное действие. Теперь говорили пушки.
Якобиты жаловались имея на то все основания, никто не оспорит этих ламентаций что так и не получили от Мальборо ничего стоящего: только обещания, так и не ставшие делами, и информацию, неактуальную ко времени получения. И всё же они ни разу не признались себе: Он только обманывает нас. Он только кормит нас пустячками и ласковым пустословием. Якобиты никогда не теряли лелеемой надежды, что, когда Изгнанник вернётся, главнокомандующий восстановит его на троне; но вместе с тем они никогда не сумели избавиться от опасения, что Мальборо может ощерить клыки, оказать сопротивление, а значит никакое возвращение невозможно. В конечном счёте, они остались в дураках. Когда дело закончилось, они получили меньше, чем ничего. Их провели, теша фальшивыми надеждами; задобрили фальшивой монетой; ублажили пустыми приветствиями. Их по большей части дурачили, запутывали, держали в постоянной неопределённости как Таллара накануне Бленхейма, как Вильруа в утро при Рамильи, как Виллара перед прорывом укреплённых линий. Прочная система мастерского притворства, отношения долгого обмана не прервались именно потому, что оставались всё время обещающими и остались таковыми на двадцать пять лет двадцать пять лет изъявлений в пылкой преданности с посулами, как объявляли сен-жерменцы, наилучших услуг и наитягчайшего предательства. Но никаких видимых дел! Ни один разводящий караулов не выдал пароля! Ни один пикет не ушёл с поля; якобиты не получили ни грана неизвестной прежде им или всему свету информации одни надежды и вечные промедления, всегдашние разочарования а потом новые надежды. Мальборо не выдал ровным счётом ничего, но якобитские агент, придворный, и министр всегда и до самого конца не расставались с уверенностью, что в один день Мальборо выдаст им всё, чем только располагает. В такое же положение попадаем и мы, сегодня, строя гипотезы, как поступил бы он, повернись события так или эдак. И если бы, например, после смерти или отречения Анны в Англии высадился бы Иаков III, объявив себя протестантом, и страна встретила бы его с восторгом, как Вильгельма в Торбее, стал бы Мальборо, вынужденный к тому обстоятельствами, драться насмерть за Ганноверский дом? Якобиты не могли ответить на этот вопрос в своё время; мы, тем более, не можем ответить на него теперь.
И мы обязаны ограничиться тем, что случилось на деле. Все отчёты, каждая запись, всё вместе говорят, что наш непроницаемый и мудрый герой четверть столетия расшатывал, дурачил и обманывал якобитский двор. Определённо, у изгнанников есть все основания чернить память этого хладнокровного, глубокого, вежливого человека, кто, почти безошибочно, прошёл по лабиринту династических, политических, военных интриг пяти царствований; кто умел в каждый критический момент понять и отстоять интересы Британии, интересы протестантизма и свои собственные интересы.
Впрочем, позвольте нам ознакомить читателя с окончательным выводом, сделанным в Сен-Жермене. Ниже несколько выдержек из Диконсона.
С учётом всего произошедшего, трудно вывести верное суждение об их [имеются в виду министры короля Вильгельма III и Мальборо] намерениях и понять, преследовали ли они иную цель, кроме самосохранения от неминуемого гнева рассерженного принца, когда бы ему посчастливилось вернуться без их содействия...
Лорд Дартмут был, возможно, искреннее остальных в обещаниях, переданных им через мистера Ллойда, но на поверку оказался столь же малополезным...
Принц Оранский в наихудшем как никогда прежде, разладе с лордом Годольфиным и адмиралом Расселом (причина ссоры в том, что он не понаслышке узнал об их интригах); были проверены и другие, с, возможно, лучшими побуждениями; считать ли в числе последних милорда Черчилля или нет, остаётся загадкой, он по-прежнему уклоняется.
Снова:
Тем не менее, король не дождался пользы от этих далеко идущих предложений: его величество настаивал на исполнении им [Черчиллем] обещания перевести на другую сторону английские войска во Фландрии, как на величайшей услуге из всех возможных, но тот оправдался тем, что в послание вкралась ошибка, что всё погибнет, если войска будут переходить отдельными отрядами, что, прежде всего, он должен получить абсолютную власть над войсками и тогда сделает дело единым махом...
Снова:
Милорд Черчилль в письме от 13 декабря[286]... говорит королю, что не стоит полагаться на преимущества от всяких заявлений в Декларации, но нужно склонить народ к себе, высадившись с подобающими силами, и потому умоляет его величество не пускаться в дело, не взяв с собою, по меньшей мере, двадцати пяти тысяч человек и вооружение для дополнительных семи тысяч. Король встретит помеху со стороны тех притворных друзей, кто никогда не сделают ему никакого добра и не потерпят для себя никакого ущерба, ибо если они окажутся без мест, то станут третировать правительство, выдавая таковое поведение за добродетель; а если найдут возможность вернуться к должностям, то станут говорить о том, что король получает большую выгоду от них, людей с такими способностями...
И снова:
Что до следующего письма[287], написанного мистером Черчиллем, он говорит королю о том, что милорда [Шрусбери] настойчиво просят принять прежнее его место государственного секретаря; давление так сильно, что он может не устоять, но даже если он и изменит своё положение, он уверяет, что никогда не переменится в своих предпочтениях; фактически, одним из главных советчиков лорда Шрусбери в этом деле выступает сам лорд Черчилль, так что он может оказать ему подобную дружескую услугу и обеспечить возвращённое доверие...
Нам также говорят, как адмирал Рассел и другие морские офицеры обманывают короля. Если британский флот упустит французский флот, они объявят причиной свою преданность Иакову. Если они встретят и побьют его, они останутся хороши с Вильгельмом. Таковое описание в основном правдиво.
И снова о Черчилле:
... он, впрочем, продолжал сообщаться с королём, если не письмами, то, по крайней мере, сообщениями до конца дней его величества, но вскоре после смерти принца Оранского, ему открылся новый простор для действий, и он поразил весь мир своими деяниями и удачей; хотя по-прежнему притворялся в добрых намерениях, обещая сыну некоторое возмещение за прошлую неверность отцу.[288]
Мы не желаем добиваться дальнейших преимуществ над оппонентами. Мы ищем правду, но не стремимся к триумфу. Мы привели независимое подтверждение того, что все лидеры революции вошли в отношения, кои мы описали и станем описывать далее, с Сен-Жерменским двором, и Мальборо вёл такие отношения дольше прочих. В этом месте нашей истории, мы оспорили неосновательность всех так называемых свидетельств, всех описаний и переложений, доложенных через третьи руки, всех подлых и глупых воображений; все эти истории о позорных предложениях и предательствах покоятся на Жизни... Диконсона, на так называемых собственноручных мемуарах короля. Долгая череда историков тянется словно бараны за вожаком в одном направлении, повторяя одни слова: о замечательной прозорливости Мальборо и о главной мотивации всей его жизни - своекорыстии. Позвольте нам испробовать на прочность этот шаблон. Какой интерес мог найти Мальборо в возвращении Иакова? В лучшем случае презрительное прощение и едва ли устранимое недоверие. Реставрация поставила бы Мальборо в положение невыгодное и опасное самое невыгодное и самое опасное среди прочих нобльменов Англии. С какой радостью ликующие якобиты, гордые тори и разъярённые виги стали бы, все вместе, втаптывать в ничтожество отъявленного архипредателя, незадачливого делателя и переделывателя королей! И какую же помощь оказал бы ему в этой буре старый хозяин? Опалу, бесчестие; в лучшем случае какую-нибудь подачку, синекуру самый щедрый дар снисходительности или безразличия; а Иаков не отличался особой снисходительностью или забывчивостью. Что бы осталось тогда у Мальборо кроме расположения Анны? Там, в узком кружке Кокпита, где царят прочные дружба и товарищество, где единение лишь крепнет под натиском наказаний и под давящей извне опасностью только там он смог бы найти надежду. И великую надежду! Но если так, зачем ему возвращать Иакова с цветущим принцем-наследником, чтобы прежний король царствовал сам или стал регентом под ревнивым присмотром Государственного совета, если сын его воссядет на трон католиком и, наипаче, протестантом; зачем ему это, тем более, что возвращение навсегда исключит Анну из престолонаследования? Стоит ли бросить жену, детей и страну ради такого исхода? Подобная нелепица никогда не занимала его соображения. Мы словно слышим, как он бормочет свою привычную приговорку над этими строками: Чушь! Чушь! Он, человек весьма сметливый и эгоистичный никак не мог снискать покоя и достатка при таком обороте событий один лишь опустошительный ущерб. Джон и Сара с последних годов царствования Карла II и во всех судорожных смятениях дальнейших лет держались за Анну, поставив свою общественную будущность на судьбу и удачу принцессы.
Вильгельм вернулся с войны, и высадился в Маргите в последних числах октября 1691 года; люди приветствовали его на всём пути до Лондона. Хорошие новости из Ирландии подогрели народный энтузиазм, а то, что кампания на Континенте провалена, понимали немногие. Гинкель разгромил ирландцев в кровопролитном бою при Охриме. Лимерик сдался. Ирландский герой Сарсфилд подписал условия, выговорив право уйти из страны на французскую службу с восемью тысячами лучших ирландских войск. Ирландское дело, как то казалось, закончилось по крайней мере, удалось подавить открытое сопротивление. Но нация, приветствуя местную победу, одушевлялась и иной, преждевременной надеждой на общий мир; увы, о мире не было и речи. Худшее ждало впереди - самые тяжёлые годы первой части всемирной войны.
Король взял в свою карету Бентинка и Мальборо: должно быть, в знак сердечного расположения. У Шутерс-Хилл карета опрокинулась. Бентинк и Мальборо получили увечья. Судя по всему, Мальборо испытал сильное потрясение: он сообщил попутчикам, что сломал шею, но Вильгельм король только ушибся успокоил его, уверив, что будь дело так, Мальборо не смог бы говорить. Тем не менее, несколько побитая компания смогла добраться до Лондона и проехать по столице среди ликующих толп.[289]
Но как бы ни радовались вокруг, Вильгельм не мог пренебречь тревогами своего положения. Больно ранившая армию несправедливость монарха к английским офицерам отозвалась сильными чувствами во всём обществе. Неудовольствие разделяли и английские министры, посредники и опора Вильгельма в управлении страной; в особенности негодовали ближайшие, главные советники короля. Они видели, что пригласивший их на службу суверен оградился от своих новых подданных иностранными войсками и иноземными командирами при английских войсках. Они видели неустойчивость собственного положения. Обе Палаты, аристократия Лондона, офицеры и войска все видели, что голландский князь, призванный ими на помощь, относится к стране несправедливо и недостойно. Пока шла ирландская война, пока стране грозило французское нашествие, естественные эти чувства молчали, придавленные необходимостью; но наступили иные времена, и нация разразилась в умеренном гневе. Парламент неуклонно вотировал обременительные ассигнования на войну с Францией, сухопутную и морскую, но использование британских войск на Континенте стало вызывать отторжение; король же оказался под неуклонным нажимом - от него требовали удаления голландцев, гвардии и фаворитов. Итак, к концу 1691 года положение Вильгельма и голландской клики виделось, на самый поверхностный взгляд, столь же шатким, как положение Иакова с его католической камарильей три года назад.
Король дурно использовал таланты Мальборо так думал сам Черчилль; он и прежде предполагал, а после Фландрии совершенно укрепился в том мнении, что Вильгельм держит его в тени преднамеренно, из политических соображений. Теперь Мальборо, раздосадованный бесплодной континентальной кампанией, не помедлил с враждебными действиями. Наступившей зимой в парламенте и высоких кругах Лондона разгорелось антикоролевское движение, Мальборо примкнул к оппозиции, и вскоре вырос во влиятельную фигуру. Он открыто критиковал короля. Он радовался, когда сплетники доносили до монарха его едкие замечания. Он, на людях, сказал лорду Уортону как в прошлое царствование, Иаков изо всех сил старался заполонить вооружённые силы ирландцами, и при приёме в армию обходились одним вопросом: Говорите ли вы по-английски? И все произошедшие с той поры перемены поменяли в этой истории одно только слово: ирландца сменил голландец. Он называл Бентинка деревянной куклой. Он, не обинуясь, убеждал Вильгельма не награждать Бентинка и Зулестайна коронной собственностью. Многие и верные ваших слуги - сказал Мальборо те, к коим имеет честь принадлежать и он, с глубокой скорбью в сердцах смотрят, как необычайные королевские щедроты достаются двум лордам, и оба они иностранцы Что до него самого, он не имеет причин жаловаться и достаточно вознаграждён местом, где служит его величеству; но долг велит сказать королю то, что тот должен знать: иначе, монарх, не будучи извещён, не сможет найти средств, и предупредить беду - беду, что может стать следствием такого, непопулярного поведения.[290]
Возможно, на деле Мальборо выразился не столь велеречиво, но суть именно такова. Он, несомненно, мог сказать и больше. В ответ король возмущённо повернулся к нему спиной.
Вильгельм, как видно из хроник, разрешал английским вельможам откровенные речи. И англичане читали королю длинные лекции об его политических ошибках. Виги неумолчно претендовали на все возможные должности, потому что они никогда не отступали от своих принципов; тори потому что поступились всеми своими принципами, и нуждались в утолении глубоких скорбей. Отношения Мальборо с Вильгельмом осложнились, но не оборвались от одних лишь слов. При назначении командиров для кампании следующего года, король решил взять Мальборо во Фландрию, генерал-лейтенантом при собственной персоне. Мальборо возразил против такого неопределённого положения. Он не желал сновать по Фландрии в ранге какого-то советника, подавать не нужные никому предложения и отвечать за все дальнейшие провалы. Он настоятельно просил оставить его дома, либо, как в прошлом году, дать командование над английскими войсками. Но король предложил Мальборо Гинкелю, а затем с плачевным результатом пристроил к графу Солмскому.
Одновременно Мальборо, действуя опосредовано, инициировал адрес Об иностранцах на службе от Общин, на высочайшее имя, и занялся организацией такого же движения в палате лордов, снискав широкое одобрение. Казалось весьма вероятным, что движение против иностранцев найдёт поддержку большинства в обеих палатах. Король понял, что парламент может вежливо потребовать от него удаления голландских пришельцев и фаворитов из всех английских учреждений, а также попросит короля отослать домой пятитысячный отряд голландской гвардии, главную и безупречную защиту Вильгельма. Это был выпад откровенно враждебного смысла. В ход стала пущена совершенно законная процедура: возможно, что дело шло к пользе; в наши дни, когда суверен, к счастью, царствует, но не правит, подобное парламентское сражение стало бы отыграно как рядовой внутренний спор. Но в конце семнадцатого столетия любая оппозиция принимала обличье интриги, и легко могла быть воспринята короной как неблагонадёжное проявление и даже заговор. Более того, деятельность Мальборо не ограничилась парламентом. Он был ведущим генералом Британии. Храбрость, способности, знатность и убедительные манеры; блестящий успех, что неизменно сопутствовал любому делу под его командованием пишет Маколей всё это сделало его любимцем братьев по оружию, несмотря на отвратительные пороки этого человека. Мы не сомневаемся, что к Мальборо ходили многие офицеры различных званий и многие среди них громко говорили против засилья фаворитов-голландцев. Насколько нам известно, отвратительные пороки этого человека при таких оказиях проявлялись в том, что Мальборо не поил и не кормил гостей.[291] Он старался заполучить их умы, не действуя через желудки вопреки обыкновению времени. И всё же, несмотря на таковое досадное упущение, Мальборо, к началу 1692 года снискал большой почёт, общественный и личный, в обеих палатах и в армии.
Общее недовольство высоких кругов двора и правительства не осталось тайной для короля. Он в точности знал, что по ходу 1691 года большинство тех людей, кто окружали его, кому он был многим обязан, без кого он не мог править Англией люди эти вошли в те или иные сношения со свергнутым соперником: тем, кто, в свою очередь, искал случая свергнуть Вильгельма. Но Вильгельм превосходно куда лучше, чем писали и пишут в посмертных апологиях видел и понимал, какие пружины движут обществом. Он понимал, что правит страной жёстко; что здесь не привычная нидерландская олигархия; что в Англии ему противостоят парламентская система и общественный отпор. Он прекрасно и загодя знал, как Их Высокие Светлости отзовутся на посты для голландцев, на угодья для голландцев, на военные звания для голландцев на все эти щедрости в обход англичан. И он как бы ни говорили его позднейшие обожатели не сильно гневался на двойную игру английских вельмож, будучи сам её причиной. Он видел в их двоемыслии неизбежный элемент небывало сложного положения. Он принимал, как непререкаемый факт желание своих английских советников подстраховаться на случай падения правительства или его смерти в бою. Он не лишал этих людей постов, и не отказывал им в личном доверии. Он, с мудрой проницательностью, рассчитал, что нобльмены ополчатся на него, как прежде на Иакова, при одном лишь условии - когда и если они решатся пренебречь двумя истинами двумя принципами, соединившими их с Вильгельмом в верном товариществе; он понимал, как им будет трудно неимоверно трудно - примкнуть к Иакову, встав, тем самым, за дело папизма и Франции.
И он не тревожился попусту, когда Годольфин рассказывал ему о своих подарках и знаках внимания в адрес Марии Моденской. Он хладнокровно слушал рассказы собственных министров о том, какие вопросы задают им якобитские агенты и как отвечают агентам сами министры. При контршпионаже широко практикуется передача врагу не лишь ложных или несвежих сведений, но, до определённого предела, и сведений доподлинных, чтобы затем, войдя в доверие, лучше обмануть противника. Многие из шпионящих посредников, тогда и теперь, будь то война или политика, разглашали секреты, допытываясь до тайн. Вильгельм знал, или, по крайней мере, подозревал, что Шрусбери сообщается с сен-жерменцами через свою печально известную мать; но, как мы видим, Шрусбери снова и снова назначается или возвращается королём на важнейшие посты. Он знал, что Рассел помирился с Иаковом: но, как мы видим, Рассел командует флотом, и полностью оправдывает доверие короля в сражении у Ла-Хога. Он знал, что Мальборо поддерживает семейные отношения с племянником, герцогом Бервикским, и что жена Мальборо переписывается с сестрой, герцогиней Тирконельской. Возможно, он знал даже и то, что Мальборо испросил прощения у Иакова, убедив принцессу Анну послать отцу покорное письмо. И всё же, по его мнению, притяжение протестантской веры и отторжение от Франции должно было удержать всех этих людей при их долге и что, в конечном счёте, отринут станет не он, Вильгельм, но Иаков. Он рассчитал верно; возможно, что проявленное тогда сочетание мудрой снисходительности и расчётливой слепоты стало вершиной его государственного мастерства. В то же время, он полагался на голландскую гвардию и следил, чтобы англичане не взяли контроля над армией. И он добился своего, сумев отчерпнуть от Англии многое, очень многое, для своих континентальных схем вопреки безучастию островитян, коих он почитал дремучими провинциалами.
Вплоть до этого времени, якобиты по собственным их писаниям были до радости удовлетворены ростом антиправительственных настроений. В секретном кругу сен-жерменцев шептались, что Мальборо помирился с Иаковом, и тешили надежду, что этот могущественный человек поработает для реставрации. Они воображали, как палаты парламента потребуют от короля того, что тот не сможет принять, как армия под надзором Мальборо станет следить за тем, чтобы палатам не причинили никакого вреда. Они воображали, что следом наступит кризис, и тогда законный король обойдётся без проклятых французских штыков: его вернут британские голоса и британское оружие, и трон его установится мечом и щитом солсберийского дезертира. Мы уже показали всю абсурдность подобных иллюзий. Но они не меркли для якобитов вплоть до Нового года. Тогда и вдруг изгнанники вспомнили о существовании принцессы Анны и маленьком, обособленном кружке Кокпита. Но этот лондонский центр активности, это средоточие недовольства а английские недовольства должны были работать на эмиграцию, повышая её политический вес, предоставляя изгнанникам выгоды никак не вёл себя в пользу якобитов. Наоборот: успех Кокпита означал полное отлучение Иакова от трона; из Кокпита шла протестантская линия наследования от Анны с опорой на человека, личность и влияние которого представали теперь в совсем ином свете на Мальборо, будущего главнокомандующего. Якобитов охватила беспредельная ярость. Они не пошли за советом к Иакову, чтобы не возражать мыслям короля: опальный монарх мечтал, как его многолетний, искусный в делах слуга вернёт прежнему господину корону, но поведали Бентинку[292] об обширном и неотвратимом заговоре.
История не оставила достойных упоминания свидетельств о том, как Мальборо замышлял сместить Вильгельма и Марию, чтобы возвести на трон Анну. Препятствия на пути такого плана стали бы неодолимыми. Дело, как говорил ему здравый смысл, не стоило рисков - при всей отваге Мальборо. Возможно, он предполагал нечто более скромное: Анну во главе всеобщей партийной комбинации, с его дальнейшими собственными притязаниями на некоторую власть к выгоде государства. Он не простирал размышлений до конкретных планов дворцового переворота, но, несомненно, думал собрать и объединить все силы враждебные правительству того времени, а правительства тех времён были неотделимы от королевской персоны. По этой, главным образом, причине, он старался быть в приязни с якобитами и, по возможности, длил и удерживал с ними хорошие отношения. Подобно лидерам оппозиции будущих времён, он держался за любой фактор, добавлявший к силе его движения. Так он, без сомнения, позволял ретивым якобитским агентам удерживать Иакова в уверенности, что работает в его интересах. В остальном он двигался дорогой, ведущей его к возможной баталии на поле закона, и каждый шаг на этом пути мог открыть ему широкую перспективу, или, наоборот, привести к тяжким последствиям. И если ход событий сулил ему выгоды в этом наступлении, риск никак не мог остановить его. Он был очень отважным человеком, он никогда не останавливался на достигнутом. Если случилась одна революция, почему бы не быть другой? Он понимал и чувствовал политику как род военного действия, как череду комбинаций, как движение сил к какому-то пункту, к бою, испытанию сил и умений, а затем сражение, исход сражения и новые мысли в новой ситуации.
Когда Вильгельм узнал от Бентинка то, что открыли последнему якобиты, он не на шутку встревожился и разгневался, но гнев его обыкновенно объясняют неверной причиной. Он и сам вполне мог приметить, что Шрусбери, Рассел и Годольфин стали относиться к принцессе Анне с большей предупредительностью, нежели к королеве. Кокпит стал местом собраний многих важных персон, и Вильгельм получал полноценные сведения обо всём, что там происходило: леди Фитцхардинг, вторая фрейлина Анны, поддерживала теснейший контакт со своей сестрой, Элизабет Вильерс, именитой любовницей и близким другом Вильгельма. Тем самым, король имел независимое подтверждение зловещих якобитских преувеличений. Вильгельм увидел в движении в пользу принцессы Анны грозный фактор, интригу поопаснее всех якобитских потуг. Он умел видеть голые факты многие именитые писатели в этом смысле слепцы. Он никогда не думал, что Мальборо попытается вернуть Иакова. Он очень хорошо знал, в чём состоят истинные интересы Мальборо. Он понимал, что Иаков станет обманут и вполне довольствовался этим. Ужасы якобитского вторжения, любимая тема исторических книг, мало волновали его. Но он, с совсем другим настроением видел или воображал роковой трезубец - парламент, армия и принцесса Анна в руках Мальборо, кто метит им прямо в королевское сердце. Как пишет Маколей, Вильгельм был не из боязливых людей, но если он и опасался кого-то в целом мире, то именно Мальборо. Он с первой встречи распознал в этом несгибаемом, амбициозном, обиженном, открытом, расчётливом и хладнокровном человеке выдающиеся военные и политические способности. Он знал, что за пламень горит в этом храбром сердце. Он понимал, что при его политике этому замечательному подданному негде найти места по способностям. Осталось прибегнуть к репрессиям. Однажды, при дворе, среди группы высоких персон король отпустил двусмысленную реплику: Мальборо бесчестит меня так, что я не будь королём непременно потребовал бы персональной сатисфакции.[293] Обоюдные удары сокрушают разницу в чинах, положениях и вздымают в благородных душах желание боя на равных. Мы увидим, как это жизненное обыкновение возымело продолжение, счастливое для дела Вильгельма и славы Мальборо.
И тогда тяготы обеих сторон и без того нешуточные обременились вмешательством женщин в мужское прежде дело. Предположение об интриге и даже заговоре, нацеленном на передачу короны Анне, глубоко встревожило короля Вильгельма. Но королева обеспокоилась пуще супруга. Анна, в её воображении, стала теперь инструментом детронизации родной сестры и узурпатором короны такого нельзя было стерпеть; следовало, не мешкая, оградить сестру от влияния нет, вырвать из когтей! женщины, кто обладает ею, употребляя Анну как таран, как орудие собственных постыдных планов. И гнев королевы пал на Сару.
История с королевскими субсидиями бередила чувства три года, и возымела то последствие, что Вильгельм стал плохо обходиться с Мальборо, а Мальборо - негодовать на Вильгельма. Свежеиспечённый король, недавний вооружённый узурпатор, не столько раздавал награды, тем более незначительные, сколько управлял возможностями. Он располагал бесчисленными способами отплатить за то, в чём увидел семейное ослушание. Принцесса Анна нежно любила супруга. Они прожили жизнь в теснейшем союзе. Она видела в нём воина, способного управлять флотами и армиями. На деле, он был хорошим, храбрым, бравым простаком. Сердцем он был с протестантскими князьями в их войне с кичливой силой Франции. И раз он не мог командовать, он искал способа послужить. В 1690-м, он, без приглашения, поехал с королём в Ирландию. Вильгельм обращался с ним с непозволительным презрением. Король лишил его кареты, хотя принц - муж Анны, предположительной наследницы трона - имел на карету полное право. И пусть одно пушечное ядро, задев и ранив короля на рекогносцировке накануне битвы при Бойне, прошло на волосок от королевского свояка, Вильгельм оставил того в пренебрежении, предоставив мыкаться с войсками.[294] В 1691 году, бедный принц, не желая долее терпеть такового обращения, добровольно вызвался послужить на флоте, не претендуя на командование. В те дни, солдаты и гражданские беспрепятственно зачислялись на морскую службу и, нередко, исполняли там важные обязанности - в некоторых случаях неоплошно. Принц Георг пришёл с прошением к королю, собравшемуся отбыть во Фландрию. Вильгельм обнял его, но промолчал. В таких случаях - пишет Сара
молчание принимается, как знак согласия, так что принц приготовил, и отправил на борт экипировку. Но король, как вскоре выяснилось, оставил королеве тот приказ, что она не станет ни дозволять, ни воспрещать принцу идти в море, если сумеет придать делу тот вид, что Георг остался дома по собственному выбору.[295]
И исполнение этого, весьма щепетильного политического дела, снова попытались поручить Саре - она, разумеется, дала категорический отказ. Определённо, от принца требовали слишком многого: он, храбрый человек, воин, спасший брата в сражении со шведами, должен был теперь отказаться от морской службы безо всяких резонов, на основании лишь собственной переменчивости в намерениях. Здесь приходилось приказывать. И принцу приказали.
Подобными мелкими грубостями король Вильгельм язвил сокровенные чувства важных в государстве персон, усугубляя, безо всякой нужды, собственные затруднения.
Анна отличалась отменным здравомыслием. Она, вопреки расхожему мнению, никоим образом не была простофилей. Она ходила торными, безыскусными путями. Она принадлежала своей вере, своему супругу; друзьям, проверенным в верности. Нельзя усомниться, что Анна ради любой из этих привязанностей - встретила бы нищету, изгнание, тюрьму и даже смерть в безмятежной и непреклонной решимости. И снискавшие её благосклонность оставались при ней надолго, на много лет, при всех переменчивых обстоятельствах. Она не была ни мудра, ни умна, но очень любила Англию. Теперь Анна отчётливо понимала, что против неё выступают сестра и зять, муж сестры, чьи права на трон она добровольно упрочила. Она с не меньшей отчётливостью знала, как Мальборо рисковал и жертвовал ради неё. Сердце её полнилось любовью к Саре, она восхищалась Джоном. И свойства её натуры непоспешные, простые достоинства, прославившие впоследствии её царствование в истории Британской империи наравне с правлением королевы Елизаветы свойства эти заявили о себе.
Королева натолкнулась на неодолимую стойкость сестры, когда, в начале января 1692 года, разъярённая новостями, подозрениями о заговоре, о подлых интригах лорда Мальборо в парламенте и армии да что там, и в Сен-Жермене, как не верить молве! она пригласила Анну к личной аудиенции, и приказала уволить Сару. Мария нашла чудовищное преступление в том, что Анна давала Саре персоне зловредной, сеятельнице раздора в королевском семействе, жене опасного человека, кто бесчестит и предаёт короля 1 000 фунтов годового содержания из парламентской субсидии. Это оскорбление короны! Для того ли назначены парламентские деньги? Теперь ты видишь, почему король по праву и долгу обязан держать в рамках своих родственников! А Сара должна быть тотчас уволена. Анна, в очередной раз беременная, встретила натиск с молчаливым спокойствием. Время от времени она флегматично роняла слово несогласия. Столкнувшись с таким несокрушимым отпором, Мария вышла из себя, принялась кричать, угрожала лишить сестру половины парламентских денег как будто она могла ими распоряжаться! Разговор обернулся сварой, спорщицы не стеснялись в выражениях. Придворные в ужасе разбежались. Сёстры расстались во гневе и между ними, как то вскоре обнаружилось, наступил полный разрыв.[296]
На следующее утро, в девять часов, Мальборо, исполнил обязанность королевского постельничего, подав монарху сорочку, и Вильгельм принял его службу с обыкновенным бесстрастием. Через два часа к Мальборо пришёл Ноттингем с письменным приказом: что Мальборо должен немедленно продать все занимаемые должности, гражданские и военные; что с этого дня он уволен из армии и со всех государственных постов; что ему запрещено являться ко двору. Приказ бил наотмашь, не предоставляя никаких объяснений. Двору и парламенту осталось гадать: стал ли причиной давешний спор принцесс, или суть в парламентской деятельности Мальборо, или здесь иная, мрачнейшая подоплёка? Дело это взбудоражило умы на несколько недель, и, как то можно без труда вообразить, породило множество толков. Нашлось едкое, но небезосновательное объяснение. Граф Штратеманн, имперский посол писал в Вену 8 февраля:
Когда Мальборо обошли генерал-квартирмейстером после взятия Кинсейла, он, прежде всего, попытался обратить английский народ против правительства, жалуясь на кромешное засилье иностранцев в высшем армейском командовании; на то, что в Англии и Шотландии командуют герцог Ленстер, граф Шомберг; на то, что в Ирландии распоряжается Гинкель; на то, что английские войска во Фландрии в руках графа Салма [Солмса], и, если верить Черчиллю, британцам нечем утешиться. Затем, он стал публично обвинять короля в неблагодарности, говоря, что тот не умеет ни наказать, ни наградить. В третьих, Мальборо попытался посредством жены главной фрейлины принцессы Датской разжечь раздор между королевой и принцессой. Наконец, он, что важнее всего, попытался примириться с королём Иаковом, кого прежде предал.[297]
Иное объяснение выжило, прилепившись к бродячему сюжету исторического анекдота. Как то рассказывают, король посвятил в план захвата Дюнкерка одних лишь Мальборо, Денби и Шрусбери. Известие об этом намерении, если верить молве, стало известно неприятелю от герцогини Тирконельской, и проект пришлось отменить ввиду французских контрмер. Вильгельм сильнейшим образом разгневался на таковое вероломство, и спросил лордов: кому из троих он обязан разглашением секрета, вверенного лишь им. Мальборо ответил так: Клянусь честью, сир, я не сказал о том никому кроме моей жены. А я не сказал своей ни слова - возразил король. По общему мнению, пишет Уолсли, Сара открылась своей сестре, сообщавшейся с Иаковым и через него с французским двором.
Уолсли подкрепляет это голословное обвинение ссылками на разных авторов,[298] главным образом на Хораса Уолпола, кто сплетничал спустя годы после смерти Мальборо. Он находит подтверждение у Бёрнета, кто не имел в виду Дюнкерка; у лорда Дартмута, кто также не называет Дюнкерка; и у Карлтона, кто рассказывает ту же историю в своих мемуарах, но пишет о задуманной в том же году атаке на Брест! Несмотря на полное отсутствие достоверных свидетельств, долгая череда авторов приняла эту историю. Но если она правдива, речь не идёт всего лишь о неосторожности. Сара умела хранить тайны. И если она стала причиной утечки, таково было её намерение и наущение Мальборо преступное дело, так или иначе. Но присмотримся повнимательнее.
План захвата Дюнкерка появился не ранее августа 1692 года, а Бреста лишь в 1694 году. Мальборо отстранили от Совета и двора в январе 1692 года. И Вильгельм не разговаривал с ним до 1695 года. Тем самым, затруднительно определить дату едкой королевской отповеди. На деле, подобный разговор не мог состояться ни в какое время. У самого диалога длиннейшая борода. Это один из анекдотов универсального применения, что нисходят по поколениям, наполняясь сплетнями, приклеиваясь к именам знаменитостей, попавших под властное неодобрение.
Мальборо с равнодушием принял отлучение и обиду, заслуженную или незаслуженную, пущенную в него с самых небес. Ведь он сам побуждал короля к разрыву. Возможно, он несколько удивился, отчего все его связи, влияние, способности оказались отринуты: наверное, он переоценил их значение. Но Мальборо не был человеком, кто берётся за дело, не просчитав цены: у нас нет никаких письменных признаков его ламентаций, он никак не комментирует случившееся. Его политическое положение пострадало не вдруг. Парламент и публика считали, что король пренебрегал талантами Мальборо, что тот пострадал, отстаивая права англичан вопреки голландскому засилью, восстав на фаворитов-иностранцев. Главные его единомышленники знаменитости тех времён выказали раздражение. Шрусбери позволил себе открытое неудовольствие; Годольфин угрожал оставить правительство. Адмирал Рассел, теперь командующий флотом, зашёл далеко, сказав в лицо королю, что Вильгельм неблагодарен к человеку кто короновал его. По ряду причин Вильгельм не доверял Расселу в той же мере и наравне с Мальборо но боялся последнего сильнее и не ответил, замкнувшись в ожесточённом молчании.
Анна переживала тяжелое расстройство. Она винила себя в том, что муж наставницы и подруги страдает по её вине. Она не появлялась при дворе в Кенсингтоне три недели, а потом появилась в сопровождении Сары. Конечно, явившись ко двору такой парою, обе дамы проявили величайшую дерзость. Придворные оцепенели. Королева, не без резона, углядела в этом демарш. Она написала сестре длинное и страстное письмо, послание с протестом, мольбою, приказом.
Никто в обстоятельствах милорда Мальборо не смеет являться ко двору. Мне нет нужды повторять причину, заставившую короля сделать то, что он сделал, невзирая на его [короля] всегдашнее нерасположение к подобным крайностям, даже заслуженным
Леди Мальборо неуместно оставаться при тебе, это даст её мужу повод к несуществующим на деле претензиям
Полагаю, я могла надеяться, что ты соберёшься поговорить со мною об этом. И король, и я ждали такого случая, поэтому и оставались [в бездействии] так долго. Но видя, что ты никак не стремишься к такому разговору, и снова привела леди Мальборо прошлым вечером, мы решили не откладывать долее, но сказать тебе, что она не должна оставаться при тебе впредь, и я имею все основания заявить, что взяв её с собой, ты повела себя невообразимо странным образом. И даже моё непременное к тебе расположение, моя готовность оправдать тебя во всём, не помогает мне закрыть глаза на твои сегодняшние дела, но я понимаю твоё положение и, взяв себя в руки, воздержусь от дальнейших замечаний.
И всё же я должна сказать, что ты повела себя очень недобро для сестры, с вопиющим неприличием в том, что касается отношений между равными; нечего говорить, я имею все резоны для упрёка. И пусть доброта всегда отвращала меня от взыскательности, я вижу теперь как ты пользуешься этим, и обязана сказать тебе: я знаю свой долг и ожидаю от тебя того же. Итак, говорю с полной определённостью: леди Мальборо не должна оставаться с тобой при обстоятельствах, [в которых находится] её муж.
Заканчивая это письмо, ещё раз прошу тебя посмотреть на вещи беспристрастно, уделив тому некоторое время. Я не требую, чтобы ты ответила теперь [немедленно], дабы предотвратить тебя от нового опрометчивого поступка. Я приду к тебе в гостиную утром - до игры, так как ты знаешь, что я не могу составить вам компанию. Когда-нибудь мы спокойно поразмыслим об этой неприятности, к чему я весьма расположена; обсудим и иное, и тогда станет ясно, что я никак не повинна в раздоре между нами. И в воле моей никогда не было иного, нежели быть тебе искренне любящей и нежной сестрой.
Анна дала твёрдый ответ на следующий день, написав между прочего:
Весьма обязана твоей заботе о моей сегодняшней жизни. И если ты добавишь к ней маленькую любезность на мой счёт, отозвав суровую приписку [о Саре] (более того, я умоляю об этом, как о вещи чрезвычайно важной для меня; как об отмене совершенно неоправданного, по моему разумению, наказания, полагая, что ты бы никогда не потребовала ничего такого и от самого незначительного из своих подданных), я сочла бы такую любезность замечательным проявлением твоей заботы. И я откровенно признаюсь, что считаю твоё намерение ничем иным, как желанием причинить мне очень чувствительную досаду, так как я скорее претерплю любое горе, чем разлучусь с ней.[299]
Принцесса надеялась, что её дядя, Рочестер, походатайствует за неё, передав письмо, но тот не захотел омрачать своё будущее, вмешиваясь в спор, опасный не лишь для спорщиц. Ответом стал приказ лорду-гофмейстеру не пускать Сару в Кокпит. Сильный удар, но он отозвался вовсе не так, как ожидала королева Мария. Анна решила разделить изгнание с подругой. Принцесса ожидала, что будет со дня на день арестована, но всё же сняла у герцога Сомерсетского Сион Хаус и переехала туда со всей семьёй, с величайшей поспешностью.
Тогда король и королева прибегли к тактике комариных укусов. Они попытались убедить герцога Сомерсетского взять дом назад, расторгнув аренду; но тот лишь выказал огорчение, что, будучи джентльменом, не может пойти на такое. Королевская чета отобрала у принцессы охрану, отказала ей во всяких приветствиях и церемониале. Потом, когда Анна поехала в Бат, они зашли настолько далеко, что приказали государственному секретарю запретить местному мэру Сара называла его торговцем сальными свечами - официально сопровождать принцессу к молитве. Такие ребячества лишь посрамили инициаторов. Широкая публика прониклась к Анне симпатией, а королеве стало неприятно узнать, что она черства к кровным родственникам, что она скверная дочь и плохая сестра.
И мы не станем удивляться тому, что Анна, преследуемая множеством комариных укусов; Анна, взирающая на рушащуюся жизнь обожаемых своих друзей по её, как она полагала причине и ещё по причине жестокосердия сестры и короля кляла Вильгельма сильными и горькими словами в личных письмах к Саре. Маколей пишет, что она называла своего зятя недоноском, некоторым чудовищем, иногда Калибаном и определяет слог Анны как стиль базарной торговки. Примечание это интересно, главным образом, как свидетельство ранневикторианского современника: он открывает нам глаза, теперь мы знаем о высокой эрудиции базарных торговок времени Маколея. Сёстрам случилось встретиться ещё один, последний раз. Анна родила ребёнка; младенец умер почти сразу же после появления на свет, и королева пришла к сестре в Сион Хаус, но лишь затем, чтобы снова приказать Анне уволить Сару. Анна, слабая и дрожащая после родов, скорбящая о смерти ребёнка отказалась подчиниться с прежней безаппеляционностью. Это были последние слова между сёстрами если не считать нескольких холодных, официальных писем.
Сара оказалась средоточием яростной вражды сестёр, бившихся за её персону. Её собственные письма не уцелели, но мы можем понять их смысл из ответов Анны. Снова и снова, в наступившие месяцы кромешных беды и позора (так обстояло дело в их глазах) принцесса писала подруге, убеждая, приказывая, умоляя, ни в коем случае не полагаться на то, что можно поправить дело, покинув Анну.
В последний раз, когда он [вустерский епископ] был здесь, я сказала ему, что вы несколько раз упрашивали меня - не лучше ли уйти, и я повторила епископу свои обычные слова. Вы без труда поймёте, что я в любом случае не пойду против ваших прав. Но в который раз заклинаю вас именем Иисуса Христа: никогда больше не говорите мне о подобном. Ибо будьте уверены, что если вы однажды найдёте в себе достаточно жестокости, чтобы покинуть меня, в жизни моей не останется ни одного бестревожного часа. А если вы сделаете так, не испросив моего согласия (и не видать мне Рая, если я его дам), я навсегда затворюсь от мира и стану жить там, где не увижу ни одного человеческого лица; так, что обо мне забудет весь род человеческий.
И снова, в конце длинного письма:
Дорогая миссис Фримен, до свидания: надеюсь, полагаясь на Христа, что вы не станете впредь помышлять о том, чтобы покинуть меня, ведь я всевозможно жертвую ради вас и ничто, кроме смерти, не разлучит меня с вами. И я с каждым днём всё более и более ваша, хотя больше, кажется, и невозможно.[300]
Не добрый ли дух-защитник Англии наградил Анну благородным и верным сердцем? Воистину, связи между самыми скромными и самыми высокими персонами из тогдашних правителей страны, калились и ковались именно в те дни, в неведомом нашему времени горниле несчастий, на наковальне преследований; наступит день, и узы эти обернутся прочным единством. И именно дружеский кружок Кокпита стал тем тиглем, откуда вскоре поднимется сила и слава Англии, чтобы воссиять между народами.
Тем временем, события шли вопреки личным и общественным интересам Мальборо и широко задуманным континентальным комбинациям Вильгельма. Едва король отправился на очередную кампанию, на остров, оставшийся без войск, пала опасность вторжения теперь уже неминуемого. Лувуа никогда не верил, и даже надсмехался над планами якобитской реставрации, но Лувуа умер, и Людовик освободился от поводий своего знаменитого военного министра. Лучшая пора для вторжения ушла с подавлением ирландской войны и шотландского мятежа, и, тем не менее, король-солнце решился на высадку. Корабли французских флотов - Средиземноморского и Флота Канала собрались в портах Нормандии и Бретани вместе со множеством транспортов и судов снабжения. У Шербура сконцентрировался экспедиционный корпус: десять тысяч отчаявшихся ирландцев из Лимерика и десять тысяч французских регулярных солдат. Иаков получил свой шанс. Два года сен-жерменцы осаждали военное министерство Франции, настаивая на том, что Англия созрела, и готова к реставрации. Рассел, по их словам, непременно выдаст либо отвернёт флот Британии; за вооружённые силы Англии, оставшиеся на острове, отвечает Мальборо; принцесса Анна договорится с англиканской церковью. Якобиты северных графств готовы встать под ружьё; дельцы Сити благоприятствуют; английский народ озлобился на голландцев. Вильгельм теперь во Фландрии, и если истинный король с должными силами высадится на остров, то доедет в карете прямо до Уайтхола. Настало время, пришёл срок проверки всех этих утверждений, этих пузырей, колышимых волнами надежды; этих речей, с подкладкой из перевираний, фальшивок, лжи; этих неустанных и уверенных повторов в устах несчастных изгнанников. Иаков получил свою возможность.
Поздно, в конце апреля, английское правительство узнало о французских планах из важных бумаг, захваченных вместе с маленьким судном. Пошли судорожные, но решительные приготовления к морской и сухопутной обороне. Некоторые войска вернулись из Ирландии, другие из Фландрии; в судоремонтных мастерских зашумели работы Британия готовила флот. Нация, вопреки всем неблагоприятным якобитским течениям, поднялась против французов-папистов и, паче, презренных, ненавидимых ирландцев; все готовились дать отпор, никто не имел в мыслях иного. Декларацию Иакова набросал Мелфорт, злой гений дома Стюартов: о нём удачно сказано, что человек этот своевременно расстарался предупредить Англию о грядущем ужасе. В экстравагантном документе нашли место вся прежняя заносчивость, политическая и религиозная, приправленная острым желанием расплатиться по счетам и накопившейся желчью мести. Из амнистии стал исключён обширный список лиц от важнейших аристократов до простых и ничтожных рыбаков, задержавших беглеца-суверена в городе Февершеме. В проскрипционном списке фигурирует и Мальборо; впрочем - как нас уверяют якобиты - с одной только целью: не компрометировать нашего героя в его деликатном положении. И Англия поднялась для отпора - так, как это случилось однажды, в прошлом, в дни Великой Армады. Все обернулись на адмирала Рассела. Тот, как и Мальборо, вёл беседы с якобитскими агентами; Вильгельм и Мария опасались адмирала, а Иаков истово верил, что Рассел предаст и страну, и свою профессиональную честь. Иаков считал, что флот у него в кармане; он предоставил Версалю списки верных ему адмиралов и капитанов. Теперь предстояло проверить, есть ли истина во всех этих историях. Теперь все якобитские претензии стали вынесены на суд равных!
Сами якобиты упоминают недвусмысленные слова, сказанные Расселом их агенту, Флойду: при всей пылкой любви к Иакову и неприязни к вильгельмову правлению, он встретив в море французский флот сделает всё, чтобы дотла уничтожить врага пусть с ними выйдет и сам король Иаков. И адмирал сдержал слово. Если офицеры станут обманывать вас сказал Рассел в день битвы кидайте их за борт, и меня первого. Мы не сомневаемся, что Мальборо, друг адмирала, его товарищ по интригам, сказал бы те же слова солдатам под своей командой. Но судьба дурно обошлась с Мальборо. Пора революций и заговоров, когда трясутся все устои, порождает племя профессиональных разоблачителей. Титус Оутс, теперь государственный пенсионер, ушедший от дел, основал самую настоящую школу, где вырабатывались фальшивые заговора со лжеучастием богатейших и знатных персон государства. Дальнейшее разоблачение состряпанных конспираций приносило выгоду. Тем более что недостатка в материале не было. В описываемом году некоторый плут по имени Фуллер отсиживавший срок в долговой тюрьме, передал в парламент леденящее кровь разоблачение, и понадобились упорные старания Общин, чтобы изобличить и осудить лжедоносчика. Теперь, в скорбный для нашей истории день явился последователь Оутса и Фуллера по имени Янг: такой же, как они негодяй, уголовник; он, отсиживая в тюрьме, разработал план обогащения, задумав обвинить известного и уважаемого человека в чудовищном заговоре.[301]
Янг, по его собственному признанию, поднаторел в подделывании документов. Он заполучил образец почерка Мальборо, обратившись к графу с письмом об условиях службы, и затем составил бумагу фальсифицированную клятву нескольких персон, составивших союз с целью захвата либо убийства принца Оранского и дальнейшей реставрации короля Иакова. Он использовал имена Мальборо, Корнбери, архиепископа Санкрофта, безвинного епископа Рочестерского, Спрата, и ещё некоторых, подделав все подписи. Соучастник Янга, Блекхед, спрятал смертельную улику в цветочном горшке в доме не подозревавшего ни о чём епископа Рочестерского. Вслед за тем Янг оповестил Кабинет об опасности, и назвал местонахождение доказательства. Прежде всего, указал он, надо обыскать цветочные горшки епископа. В канун вторжения, в преддверии судьбоносной морской баталии, когда флотом командует сомнительный адмирал, консулы поддались паническому настроению толпы. Мальборо вместе с одним или двумя известными лидерами якобитов был поспешно арестован, и послан в Тауэр.
Три члена совета, лорд Девоншир, Бредфорд и Монтегю сохранили рассудок: они отказались подписать ордер на основании показаний единственного свидетеля, человека, к репутации которого служило только одно обстоятельство: ему пока что не успели отрезать уши. Тем не менее, в ночь на 4 мая Мальборо отошёл ко сну в положении государственного преступника, обвиняемого в государственной измене.
Дом епископа подвергся тщательному обыску; сыщики проверили почти все цветочные горшки, пропустив, однако, горшок, стоявший около комнат для прислуги. И в этом упущенном досмотрщиками горшке как раз и лежала роковая на тот момент бумага, цена жизни и епископа и нашего героя. Правительственные офицеры вернулись в Уайтхол с арестованным епископом, но без улики. Янг распорядился из тюремной камеры о возвращении документа и переслал его королевским советникам с новой легендой.
Но он потерял на этом две недели, и обстоятельства переменились. Произошли важные события. 19/29 мая английский и голландский флоты, оставившие распрю перед готовым к бою неприятелем, схватились с Турвилем и главными силами французского флота у мыса Ла-Хог. Обе стороны ввели в дело впечатляющее число кораблей, но армада Рассела сорок тысяч человек и семь тысяч орудий оказалась сильнее турвилева флота: девяносто девять кораблей против сорока четырёх. Стороны дрались крепко; Турвиль потерпел разгром. Его флагман, Le Soleil Royal, названный в честь Людовика XIV был сначала разбит, а потом сожжён по ватерлинию. Рассел рассеял французский флот, и загнал его в порты, но тем не успокоился сам он и его адмиралы, трое из которых, самые даровитые, значились в якобитских списках пламенными приверженцами Иакова пошли в гавани за битым врагом. Сражение длилось пять дней. Отважные флотилии английских шлюпок отсекали разбегавшиеся французские корабли от поддержки береговых батарей, жгли суда снабжения, уничтожили множество транспортов, а король-изгнанник глядел с берега, как англичане крошат в щепы механизм французского нашествия - силу, что должна была доставить его на родные берега.
Сражение у Ла-Хога со всеми дальнейшими последствиями сгладило память о Бичи-Хеде. Более того, оно решительно и на весь срок антифранцузских войн Вильгельма и Анны перечеркнуло претензию Людовика на морское господство. Ла-Хог стал Трафальгаром семнадцатого столетия. Пусть читатель решит, что важнее: факт или фантазия; пусть сам рассудит, можно ли опираться на тень. Рассел до сих пор не очищен от исторического обвинения в злодействе и предательстве: виновен потому что заигрывал с якобитскими агентами; виновен потому что агенты бахвалились тем при сен-жерменском дворе; виновен потому что Иаков хотел верить и верил этим агентам, пересказывая их россказни Людовику; виновен потому что якобитские авторы записали приятную им выдумку о Расселе. Ни сокрушительная победа, ни геройский подвиг никак не говорят за него. Макферсон, Далримпл, Маколей и податливая паства цитатчиков, щиплющая с их пастбищ, до сих пор подменяют реальность выдумкой к порицанию Рассела. Мы предложим современному правосудию две формулировки: он был не прав, когда ложно и глупо сообщался с якобитскими агентами; и он, что куда существеннее, на деле побил француза, и разрушил дело Иакова.
Победа уняла тревоги советников, и утихомирила общественное возбуждение. Лорды Хантингдон и Скарсдейл, арестованные в одно время с Мальборо, но по иным основаниям, вышли на свободу. Встревоженный сумбурными арестами Вильгельм писал консулам, сильно сомневаясь в необходимости таких серьёзных мер.[302] Тем не менее, неприязнь королевы возобладала, и Мальборо остался в заточении, в Тауэре. Сара приехала в Лондон из Брентфорда, желая быть поближе к мужу, помочь ему в защите, поднять голос в его оправдание. Никто не мог навестить Мальборо без особого разрешения государственного секретаря, и мы располагаем серией таких приказов за подписью Ноттингема он выписал их Саре и некоторым другим, пожелавшим навестить узника. Среди последних, не побоявшихся навлечь гнев королевы, самое знатное лицо лорд Бредфорд. Мальборо, как и всякий, попавший в такое же положение, нашёл вокруг немного друзей. Беда не приходит одна: 22 мая умер его младший сын, Чарльз.
Анна писала письма, исполненные верности и участия.
Я узнала, что лорд Мальборо отправлен в Тауэр; и пусть я вполне уверена в том, что у них нет ничего против него, и ожидаю подтверждения тому в вашем письме, я содрогнулось, когда мне сказали об этом; тяжело думать, в какое место отправлен один из твоих друзей. Я передумала тысячу мрачных дум, и не могу уйти от опасения, что они воспрепятствуют вам приходить ко мне; хотя и не могу вообразить, как они смогут этого добиться, не сделав узницею и вас.
Мне только что передали известие от очень надёжных людей: как только ветер переменится на восточный,[303] ко принцу и мне приставят часовых. Если вы слышали о подобном замысле, и считаете его возможным делом, молю о встрече с вами до того, как переменится ветер; потому что затем никому не ведомо, будет ли у нас хотя бы и единственная возможность поговорить друг с другом. Но пусть они делают то, что им заблагорассудится: ничто не в состоянии мне досадовать, пока я имею удовольствие видеть мою дорогую миссис Фримен; и, клянусь, готова безропотно жить на воде и хлебе, меж четырёх стен, но с ней; а пока вы будете любезны со мной, ничто в мире не причинит досады верной вам миссис Морли, и не иметь ей и минуты счастья на том свете или на этом, если она когда-нибудь изменит вам.[304]
И:
Тысячу благодарностей миссис Фримен за доброе письмо, давшее мне знать об её заботах, а эти новости занимают меня больше всех прочих. Я считаю дни и часы долгого времени до окончания срока, когда к вашему благу и благу лорда Мальборо он выйдет на свободу и душа ваша облегчится. Вы не сказали ничего о своём здоровье, поэтому я надеюсь, что с ним у вас всё в порядке, по крайней мере, не хуже, чем во время нашей последней встречи.
И снова, с некоторой суровостью:
Сердечно скорблю о том, что миссис Фримен претерпевает от множества промедлений, но скажу в утешение: они не могут держать лорда Мальборо в Тауэре дольше [законного] срока; надеюсь, что парламент, с началом заседаний, позаботиться о том, чтобы людей не запирали безвинно, иначе здесь никому не будет житья - разве что кичливым голландцам и их подлым английским прихлебателям.
Дальнейшее письмо:
И нет такого страдания, на которое я с готовностью не пошла бы, чтобы избавиться от мыслей о нашей возможной разлуке. Клянусь, я скорее там разорвать себя на куски, нежели уступлю в моём твёрдом решении.
И снова:
Моя дорогая миссис Фримен была столь мрачна, уходя отсюда, что я не удержусь от вопроса - как она теперь? и питает ли надежду на скорое освобождение лорда Мальборо? В имя Бога, заботьтесь о себе, дорогая, и не давайте ходу меланхолии, как вы умеете это... Полагаю, молоко ослицы пойдёт вам на пользу, вы можете пить его утром или днём, как будет удобно... Не премину побыть с моей дорогой миссис Фримен около пяти-шести часов, если вы не отправитесь в Тауэр.
Анна написала почтительное письмо королеве, с несомненной целью помочь своим друзьям.
Сайон-Хаус, 20 мая.
Теперь, хвала Богу, я восстановила свои силы в достаточной мере, чтобы отъехать заграницу. И, ведомая долгом и желанием, готова служить вашему величества тотчас, как стану способна к службе, хотя в последнее время имею несчастье быть предметом глубокого неудовольствия вашего величества, что, постигаю, могло обернуться плохим истолкованием всего, что я делаю, или от чего воздерживаюсь с самыми почтительными намерениями. И я теперь сомневаюсь, не заходят ли те резоны, что движут вашим величеством, когда вы воспрещаете людям оказывать мне обычные знаки уважения, настолько далеко, что не позволят мне служить вам, исполняя свой долг. Признаюсь, что сильно страдаю от происходящего, и ничто, кроме собственных распоряжений вашего величества не вынудило бы меня покоряться таким обстоятельствам. По этой причине я, рассуждая про себя, жалуюсь на дурное со мной обращение, но стараюсь по возможности скрывать такие мысли. И пусть я, до любезного вашего дозволения, не претендую на жизнь в Кокпите, но где бы ни была, я не премину и впредь выказывать вам всяческие преданность и почтение, что ношу в своём сердце, пребывая любящей сестрой и слугою вашего величества,
Анна.
Королева дала холодный ответ:
Получила твоё письмо от епископа Вустерского, и мало что могу сказать в ответ: ты ведь вполне знаешь, что я никогда не прибегаю к комплиментам, да и теперь от них не будет пользы.
Мы отдалились не по моей вине, и я постаралась указать тебе, как надо поступить, чтобы положение переменилось. Большего сказать не могу. Не затевай пустых хлопот; будь уверена, что никакие слова не помогут нам покончить с жизнью врозь, чего мы обе не заслужили. Ты знаешь, чего я требую от тебя. И говорю ещё раз, если ты всё ещё сомневаешься: я не переменю решения, но ожидаю, что ты подчинишься; а иначе не удивляйся моим сомнениям в твоей доброжелательности. И я не удовлетворюсь никакими иными знаками внимания. И я не могу дать твоим действиям никакого иного истолкования, кроме того, что даёт им весь вынужденный наблюдать за тобою свет. Но сказанное не должно затмить того, что я счастлива узнать о твоё хорошем самочувствии; желаю того же и впредь; желаю, чтобы ты однажды, пока это в твоей власти, дозволила бы мне в полной мере быть твоей любящей сестрой,
Мария.
Судя по всему, король и королева, подогревая друг друга в гневе, пытались сообразить: как им отсечь Анну от парламентской субсидии, одолев предположительно стойкое сопротивление Годольфина и Казначейства. До дела не дошло, тем более что Общины провалили бы любое подобное начинание. Но Сара узнала о королевских размышлениях из надёжного источника. Она неустанно повторяла, что должна исправить положение уходом от Анны разумеется, временным. Принцесса дала замечательный ответ:
Я от души надеюсь, что моя дорогая миссис Фримен благополучно добралась до дому; и теперь, когда мне представился случай для письма, должна сказать ей, что если она найдёт в себе достаточно жестокости, и покинет свою дорогую миссис Морли, то тем лишит её всякой жизненной радости и покоя; и если такой день наступит, я не найду впредь и мимолётного удовлетворения и, клянусь вам, стану тогда затворницей, чтобы не видеть никого из людей. Можете не сомневаться, что так и будет если при мне не будет вас. Впрочем, как пожелаете; однако помните, что сказала мне К. вечером, накануне того дня, когда лорд ваш лишился всего: она искала повода для ссоры, но если эти люди лишат меня двадцати или тридцати тысяч, что с того? Совсем недавно я жила и без этого. Когда я только вышла замуж, мы имели едва ли двадцать (хотя, сказать по правде, король [Карл] любезно оплачивал мои долги), и если прошлое вернётся, разве я не сумею сэкономить; разве не станет наша семья жить в добровольной скромности, открыто и без смущения? И если, миссис Фримен, опасения ваши сбудутся, не воображайте себя причиной беды так что будьте покойны, вы никоим образом не причастны к этому делу; и я снова умоляю вас: побойтесь Бога, и никогда не заговаривайте впредь о расставании, даже и не помышляйте об этом; а если вы всё же решитесь покинуть меня, то будьте уверены, что разобьёте тем сердце обожающей вас миссис Морли.
В ответ на просьбу Сары объяснить положение дел принцу Георгу, Анна написала:
Повинуясь дорогой миссис Фримен, я рассказала принцу всё, о чём она просила меня, и принц настолько одного со мною мнения, что будь к тому нужда, сам укрепил бы меня в решимости; и оба мы молим вас никогда более не произносить таких жестокосердных слов. Неужели вы вообразили, что мы настолько дурны, что мы бросим тех, кому стольким обязаны; тех, в ком так уверены в беде и удаче ради двухсот тысяч фунтов, ради ежедневной, с утра до ночи пыточной необходимости быть среди льстивых прислужников и глупцов? ... И что много важнее, как сможет выдержать моя совесть, если я пожертвую честью, репутацией, всеми истинными благами земной жизни в угоду эфемерным интересам, в коих не находят подлинного удовлетворения и те, кто творит из них кумира, люди далёкие от добродетели? Нет, дорогая миссис Фримен, оставьте надежду на то, что преданная вам миссис Морли когда-либо согласится с вами. Она будет терпеливо ждать дня радости, а если ей не случится дожить до него, умрёт с верой в непременный, грядущий и новый расцвет Англии.
Тем временем, Мальборо просил помощи Совета. Он писал Денби, лорду-председателю:[305]
Узнав, что сегодня, в Вестминстер-холле публично обсуждают передачу некоторого письма за моей подписью в большое жюри, дабы они решили вопрос о поручительстве не в мою пользу, осмелюсь обратиться к вашему лордству, уверив вас своей честью и репутацией, что если такое письмо и появиться, оно как это должно быть и будет после проверки окажется подделкой, настолько явной, что не найдёт у правительства доверия и не даст ему никаких выгод, в чём я не сомневаюсь, так что ваше лордство сумеет защитить меня от вышеупомянутого неправедного разбирательства, etc.
И Девонширу, лорду-председателю суда пэров:
Я настолько уверен в собственной невиновности, и настолько убеждён, что любое подобное письмо, буде предъявлено, непременно окажется подделкой, состряпанной лишь с целью держать меня в тюрьме, что без сомнений в вашей доброжелательности, ищу в вашем лордстве защитника от готовящейся процедуры, что станет позором для правительства наравне с расследованием.
Ваш, и т.п.
Одновременно, Мальборо настаивал на своём законном праве, ссылаясь на Хабеас Корпус и требуя освобождения под залог. Он писал Галифаксу:
Мой поверенный придёт в Суд королевской скамьи к началу следующего заседания за судебным приказом о правомерности моего заключения; [я] не знаю за собой никакой вины, и никто не сможет оспорить моего права освободиться под залог, так что прошу ваше лордство об одолжении: будьте там и станьте одним из моих поручителей, поскольку я пока не знаю, какую сумму залога они назначат; я никогда бы не потревожил ваше лордство без необходимости, но теперь тот самый случай и ваш покорный слуга станет обязан вам очень многим и по гроб жизни.
Мальборо.
11 июня Янг и его сообщник Блекхед предстали перед Тайным советом. Епископ оставил нам ясно изложенный и хорошо документированный отчёт - бесценную, доподлинную картину из тех дней. Мы видим усердное и преданное исполнение обязанностей кабинетом министров, долгую и неустанную работу Ноттингема со свидетелями, поиски правды, формально-учтивое обращение с обвинённым прелатом. События приняли драматический ход. Получив очную ставку с епископом Спратом, стоя перед придирчивым собранием советников, Блекхед, павший уже духом, полностью сознался и признался в преступлении. Мы читаем следующий диалог:
Граф Ноттингем: Блекхед, в прошлый раз вы признались в том, что доставили епископу Рочестерскому письмо от Роберта Янга, под фальшивым именем доктора Хука.
Блекхед: Да, так и было.
Граф Ноттингем: Узнаете ли вы это письмо, если увидите его?
Блекхед: Не скажу; сомневаюсь, что узнаю.
Граф Ноттингем: Вот оно (передаёт письмо ему в руки); это ли письмо вы доставили епископу?
Блекхед: Не скажу, не уверен, что это.
Граф Ноттингем: Подумайте хорошенько; посмотрите на адрес, вы не можете не вспомнить. Вы были отчасти искренни прошлой пятницей и если вновь станете запираться, это обернётся для вас к худшему.
Блекхед: Да, возможно это оно; это то самое письмо.
Граф Ноттингем: Но что заставило вас, когда вы во второй раз были в Бромли, так рьяно домогаться от дворецкого и иных слуг епископа, дозволения осмотреть комнаты в доме, в особенности его кабинет?
Блекхед: Нет, я не помню того, что желал осмотреть кабинет. Дом этот мне ничуть не любопытен.
Граф Ноттингем: Но здесь, снаружи, находятся некоторые слуги епископа, и они готовы поклясться в том, что вы весьма настойчиво вынуждали их показать кабинет...
Блекхед: Не стану отрицать, что желал видеть кабинет епископа...
Граф Ноттингем: По какой причине вы так настойчиво стремились увидеть те или иные комнаты? Была ли при вас некоторая бумага, назначенная к тому, чтобы бросить или забыть её в каком-то месте епископского дома?
Здесь Блекхед замолчал, словно очень не желая продолжать; а разные лорды настаивали на правдивом ответе. Наконец он продолжил, хотя и в крайнем замешательстве.
Блекхед: Да, должен признаться, у меня в кармане был документ, и я замышлял оставить его где-нибудь в доме.
Граф Ноттингем: И что вы сделали с ним?
Блекхед: Я оставил его в гостиной, что расположена за кухней.
Граф Ноттингем: В каком месте гостиной?
Блекхед: В цветочном горшке на камине.
Здесь вмешался епископ. Спаси Господь! - воскликнул он - Я протестую. Я никогда не слышал, что мои слуги нашли там какую-то бумагу. Будь дело так, они непременно принесли бы её мне. И он предложил вызвать слуг на допрос.
Граф Ноттингем: Ничуть, мой лорд, нам нет нужды в их показаниях. Ведь этот парень уже сказал больше, нежели знают слуги. Он признался не только в том, что желал видеть ваш дом, в особенности кабинет, но и в том, что оставил внутри документ; и что он оставил документ в вашей гостиной, в цветочном горшке на камине... Блекхед, какую бумагу вы оставили на камине епископа?
Блекхед: Коллективное письмо.
Граф Ноттингем: Этот ли документ (показывает лежащее на столе коллективное письмо)?
Блекхед: Да, этот.
Граф Ноттингем: Как он попал к вам? и кто научил вас подложить его?
Блекхед: Я получил его от мистера Янга, и это он научил меня оставить его в доме епископа, что я и сделал.
Граф Ноттингем: Янг приказал вам оставить его в цветочном горшке в гостиной?
Блекхед: Именно так, и я положил его, куда было указано...
Советники получили, и пустили по рукам поддельный документ и мы, исследуя жизнь Мальборо с пристрастием не меньше судейского, процитируем его здесь, как он приведён в воспоминаниях Спрата.
Мы, нижеподписавшиеся, торжественно клянёмся перед лицом Господа, что всевозможно поможем королю Иакову вернуться на трон своего королевства; что во имя этой цели, мы готовы встретить его у места высадки с тридцатью тысячами хорошо вооружённых людей; что мы захватим самого принца Оранского, живым или мёртвым; что мы немедленно позаботимся о сильном гарнизоне для короля и снабдим его должной суммой денег для содержания армии.
20 марта 1691 года,
Мальборо
Солсбери
Том. Роффен*
Корнбери
Безил Файрбрейс
Джон Уилкокс.
* Подпись Спрата, как епископа Рочестерского.
Совершенство фальшивки поразило епископа. Не могу поверить сказал он как можно подделать мою подпись с таким искусством; они польстили мне одним лишь различием я пишу неразборчивее, но, не считая этого, заявляю, что сходство поразительное; поистине это моя рука и если бы я увидел бумагу в ином месте, то без долгих колебаний согласился бы, что это написал я сам. Неловко признаться, но такое могло бы обмануть и ближайших моих друзей.
Здесь вмешался Годольфин, и в его реплике отлично прослеживаются дружеские намерения. Ваши сиятельства сказал он я прекрасно знаю почерк архиепископа Санкрофта, и здесь он почти безупречен. Он добавил, что подпись графа Мальборо подделана с таким мастерством, что и ближайшие друзья не нашли бы различия, не зная, что письмо собственноручно написал Янг.
И Янг предстал перед советниками.
Граф Ноттингем (берёт письменную клятву, и показывает её Янгу): Не вы ли передали эту бумагу Блекхеду, приказав спрятать её в дымоходе дома епископа Рочестерского, или в цветочный горшок, если таковой найдётся?
Янг: Нет, я никогда не говорил ему прятать бумагу туда или в горшок.
Граф Ноттингем: А что скажете вы, Блекхед?
Блекхед: Мистер Янг дал мне эту бумагу, приказал оставить её в доме епископа и, если выйдет, спрятать в цветочном горшке в какой-нибудь из комнат; что я и сделал, оказавшись в гостиной.
Янг: Такого не было. Я всё отрицаю.
Граф Ноттингем, лорд Сидни, и прочие советники: Почему, в таком случае, вы дали нам спешные указания послать людей и искать именно в цветочных горшках, а не в иных местах дома епископа?
Янг: Я ничего не говорил о цветочных горшках. Я просил вас принять меры к самому тщательному обыску у епископа: когда тот был за границей, он держал эту клятву при себе; теперь, дома, он положил её в какое то тайное место, боясь, чтобы бумагу не нашли случайно. Возможно, я сказал что-то о дымоходе.
Советники: Нет, все мы отлично помним, как вы особо помянули цветочные горшки.
Янг: Это сговор между епископом Рочестерским и Блекхедом, они хотят воспрепятствовать полному раскрытию заговора.
Граф Денби: Янг, я и не знал, что на свете встречаются такие чудные создания. Надеешься ли ты, что мы вообразим, как епископ Рочестерский сговаривается с твоим подельником, чтобы заиметь коллективное письмо, написанное собственной его рукой и потом положить в цветочный горшок в собственном его доме? письмо, что ставши обнаруженным, поставило бы под угрозу его жизнь; и мы видим в том, что письмо не было там найдено, небывалую благосклонность судьбы к епископу.
По ходу расследования, пишет епископ, несмотря на то, что подделка Янга была с полной очевидностью доказана признаниями его компаньона и орудия, Янг, всё же держался с отважной, невозмутимой уверенностью, с наглой и бодрой невозмутимостью, хотя и был едва ли ни главным виновником случившегося. Но нагромождение лжи рассыпалось и переполненный чувством благодарности к Богу и Совету епископ, возвратился в свою епархию. Теперь у короля не осталось никаких законных средств против Мальборо. Ни один свидетель при том, что для обвинения в заговоре нужны двое не мог указать на графа, а инкриминируемый ему документ оказался доказанной подделкой. 15 июня, после шестинедельного заключения, Мальборо удалось представить своё дело Суду королевской скамьи, как вопрос о законности своего содержания под стражей. Правительство потребовало поручителей и залога в 6 000 фунтов. Галифакс не подвёл, то же и Шрусбери. Оба лорда и ещё две персоны стали поручителями Мальборо. Поступок их разъярил королеву и два знаменитых строителя нашей конституции стали вычеркнуты из списка тайных советников. При этом выяснилось, что в этом списке осталось имя Мальборо по недосмотру. Недосмотр тотчас исправили.
Мальборо вышел на свободу, и кружок Кокпита воссоединился в Беркли Хаусе, в прежнем товариществе, гневаясь на несчастную судьбу. Худшего едва удалось избежать. Янг сработал мастерски, сам Мальборо подтверждает, что, когда ему показали документ, он не поверил своим глазам, увидев на бумаге собственный автограф. Будь этот заговор получше подготовлен, он мог бы при тогдашней панической боязни вторжения кончиться для Мальборо эшафотом. Более того, граф мог ожидать, что в любой момент тот или иной якобитский агент из числа посредников между Мальборо и Сен-Жерменом явится вдруг с изобличающими откровениями. Но нервы его были из стали, и никакие нависшие угрозы, никакое долгое беспокойство не могли сказаться на его самообладании и безмятежности. Равным образом, он никак не изменил линию поведения. Он, как и прежде, поддерживал тайные отношения с королём Иаковом, действуя через разные секретные каналы, и случившаяся беда ни на йоту не изменила характера этих отношений. И он по прежнему оппонировал королю, используя всякую доступную ему возможность. Парламент ушёл на перерыв, следующие заседания должны были начаться лишь в ноябре. Перерывом - пишет недоброжелательный Далримпл[306]
воспользовался лорд Мальборо, разъярённый, по его словам, бесчестием от короля для вигов и его самого; чей фавор у ближайшей наследницы трона, боевой профессиональный дух, и, прежде всего, неутомимая способность к интригам, позволили ему, простому военному в тюрьме [под залогом], оказать влияние на всю жизнь королевства, и подготовить устойчивую и согласованную парламентскую оппозицию.
С театра войны шли новости, бередящие душу Мальборо. Как и в 1691 году, кампания началась с блистательного успеха французов. Пока Вильгельм готовился и не мог тронуться из-за медлительности союзников, Людовик осадил Намюр крепость с репутацией неприступной твердыни. Осаду возглавил сам король, а вёл Вобан; тем временем, Люксембург с восьмидесятитысячной армией отрезал Вильгельма от подхода подкреплений. И снова несчастливый глава Великого альянса и его армия наблюдали, не в силах ничего предпринять, как пала важнейшая из союзнических крепостей. Но худшее ждало впереди. В августе Вильгельм проделал ночной марш со всей армией, чтобы атаковать Люксембурга, разделившего силы. Он застиг французов врасплох ранним утром у Штеенкерка. Союзники смяли и рассеяли передовые части противника, в лагере французов началось смятение. Но Люксембург умел действовать в непредвиденных ситуациях; ему хватило одного часа, чтобы выстроить правильную линию баталии. На острие атаки союзников пошла британская пехота. Восемь великолепных полков под началом генерала Маккея ударили на швейцарцев, и разбили их в схватке, сопоставимой по накалу ярости с теми боевыми событиями, что видело на европейской земле живущее сегодня поколение. Люксембург контратаковал изнурённых в атаке англичан гвардией Франции, и, после бешеного, в основном рукопашного, на саблях и штыках, боя, отбросил Маккея назад.
Тем временем французы стали получать подкрепления и перешли в наступление по всему фронту. Граф Солмс, голландский офицер, родственник Вильгельма, сменивший Мальборо на командовании британским контингентом, успел к тому времени доказать искреннюю неприязнь к солдатам и офицерам. Они вполне поняли его чувства, и отвечали взаимностью. Теперь Маккей умолял о подмоге, но Солмс в грубом ответе отказал ему в помощи. Голландский генерал - мы впервые встречаем его на этих страницах - доблестный Оверкерк, сражавшийся на другом фланге, передал англичанам два батальона и не безрезультатно; тем не менее, британские силы замечательные солдаты, которыми так гордился Мальборо в прошлом году потерпели полный разгром и бежали, потеряв двух лучших генералов Маккея и Ланьера а с ними и половину солдат: более трёх тысяч убитыми и ранеными. Судя по всему, Вильгельм потерял управление боем. Свидетели несчастья уверяют нас, что король, глядя на кровопролитие, лил горькие слёзы, и восклицал: О, мои бедные англичане! Но что с того? К полудню вся союзническая армия отступала; потери обеих сторон оказались примерно равными, по семь-восемь тысяч человек, но французы оставили за собой поле и благовестили победу по всей Европе.
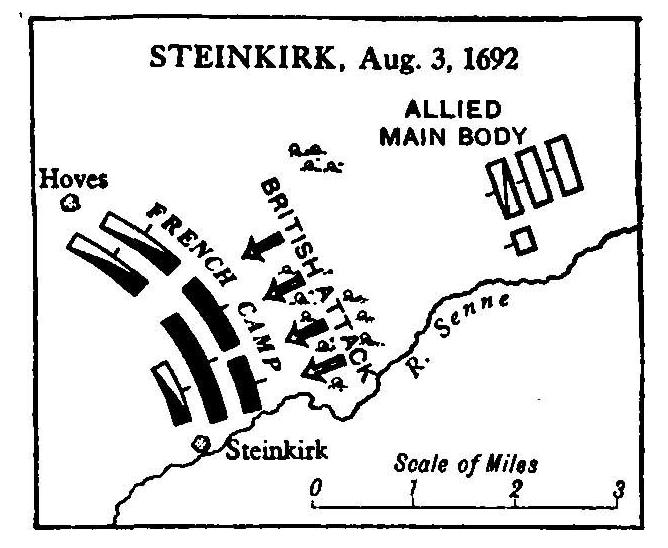
Не сохранилось документов о том, с какими чувствами Мальборо принял эти известия: до нас не дошли ни его письма, ни записи разговоров. Но очень может быть, что эта новость стала тягчайшим ударом из всех, что выпали на долю Мальборо в описываемый период его жизни. Речь шла об его собственных солдатах, тех самых войсках, кого он, с оправданной гордостью, провёл парадом перед графом Дона, и назвал непобедимыми. Европа успела удостовериться во всех боевых качествах этих регулярных солдат. Поведение англичан славилось врагами не тише восхвалений, звучавших в союзнических лагерях. Не по своей вине, но на этот раз они не смогли подтвердить репутацию непобедимых. Вина лежала на других. На короле замечательном монархе и государственном деятеле, кто не доверился собственной проницательности; кто, не умея стать великим полководцем, не собрал около себя людей, способных исполнить дело; кто отдался всяческим и неуместным предубеждениям и предвзятостям, позволив этим чувствам встать между ним и верной службой английских солдат на бранном поле.
Капризное колесо фортуны вертится туда и сюда, и никто не сумеет рассудить, удачно или неудачно сложились обстоятельства Мальборо, человека без занятий и даже государственного преступника он, по понятным причинам, остался в стране и наблюдал из Лондона за исходом Солмса с английской армией от Штеенкерка. Если бы Вильгельм обращался с ним получше, если бы он оставил его на прежнем командовании, Мальборо мог бы поддержать авторитет Солмса в том сражении. Удалось бы ему повлиять на исход сражения; сумел бы он, действуя в отведённой ему ограниченной сфере, привести в порядок ход всего, весьма напряжённого дела? Возможно, он бы увяз в неразрешимой задаче наполовину политической, наполовину военной; или не смог бы освободиться от вериг обстоятельств? Возможно, он не ушёл бы от беды в непредсказуемостях боя и погиб бы с Маккеем или вместо Маккея? Но на последнее не может пенять никто таков контракт солдата. Или он наградил бы Вильгельма тем, чем был обделён глава Великого союза, возложив лавры победителя на главу, увенчанную прежде и им же по некоторому мнению короной Англии?
Но вместо этого он пребывал на малоприятном и второстепенном положении, критикуя дурное ведение дел, соглашаясь, в принципе, с политическими намерениями правительства. Он остался при таком занятии надолго а человеку дано жить недолго. Дворцовая гверилья против Анны продолжалась, принцессу обступили многие досады и неуважения: теперь мы назвали бы её жертвой общественного бойкота. С началом заседаний, в ноябре, Мальборо обратился к парламенту, ходатайствуя о рассмотрении своего дела по существу, и нашёл у Лордов всеобщую поддержку: в наши времена, в подобных обстоятельствах его жалоба стала бы немедленно удовлетворена, а дело закрыто. Лорды проигнорировали тронную речь короля, и занялись расследованием обстоятельств незаконного тюремного заключения некоторых своих коллег. Дебатировался следующий тезис: если обвинять больше не в чем, то удержание залога или отказ в снятии поручительства есть не что иное, как посягательство на имущество. Последовали язвительные прения. Палата вызвала к объяснению констебля Тауэра, юрисконсульта Казначейства и даже судей Высокого суда. Вильгельм понял, что против него поднялось одно из тех монолитных и суровых конституционных движений, что может смести любого английского короля если тот не уступит. Он вынес этот урок из времён Карла II. И Вильгельм, воспользовавшись королевской прерогативой, освободил Мальборо от поручительств. Палаты разделались с жалобами, и перешли к обсуждению военных вопросов.
Самые пылкие прения пошли о поведении графа Солмса. Злые к нему чувства вышли за всякие пределы. Его обличье, его пристрастия, его некомпетентность, его злобное легкомыслие в самый кризис сражения - всё было предъявлено к обвинению. Он, утверждалось, послал англичан на бойню, бросил их в проигранном положении и даже подшучивал над их избиением. Теперь поглядим - так он воскликнул, когда Маккея почти отрезали - как будут выкручиваться бульдоги! Британская армия пестует славную традицию: солдату, храбро погибшему в бою, прощается всё. Тем не менее, когда, через год, граф Солмс получил смертельную рану в резне под Ланденом, английские офицеры и весь английский стан обвинили его в немужественной предсмертной агонии. Горький плод злонравных поступков! Лорды приняли почтительный адрес, умоляя короля не подчинять никаких английских офицеров начальникам-голландцам, безотносительно к званиям. В Общинах, дворцовые сегодня мы сказали бы министерские - докладчики склоняли коммонеров к умеренности. Сеймур, чья знаменитая независимость стала в то время обуздана местом в совете, в особенности распространялся о второсортности английских генералов. Возможно, у нас есть хорошие капитаны, майоры и даже полковники, но ни один из наших офицеров не удовлетворяет континентальным требованиям к военным наивысшего ранга, не обладая ни должным опытом, ни должными профессиональными качествами. Другие ораторы пели ту же похоронную песнь национального самоуничижения. Но им не удалось убедить коммонеров. Один общинник имел дерзость объявить, что десять некоторых английских офицеров ходили бы уже в маршалах Франции, родись они французами - очевидное преувеличение. Но, в конечном счёте, Общины выступили против короля слабее Лордов. Заговор Грандваля, якобитского энтузиаста посланного Сен-Жерменом на цареубийство, поднял в англичанах прокоролевскую симпатию, и корона упрочилась на неколебимом основании. Если правительство Вильгельма пережило позор Солмса при Штеенкерке, оно могло вынести что угодно. Король отделался кратким ответом на адреса, и парламент вотировал деньги на следующий, равно несчастный и дурно проведённый военный год.
Июль 1693 увидел сражение при Ландене: большое, жестокое за двести следующих лет Ланден по кровопролитию уступит первенство одним лишь Мальплаке и Бородино. Французы подошли при большом численном превосходстве 96 батальонов и 210 эскадронов против 65 батальонов и 150 эскадронов у Вильгельма. Тем не менее, король решил стоять под атаками, успев выстроить главная работа пришлась на одну ночь сильную систему траншей и частоколов на закрытой местности вдоль реки Ланден, в извилине Гееты. Сражение решилось в горячем бое за деревню Нервинден - трижды взятую, дважды отбитую. Союзники оказали героическое сопротивление, но всё же ушли с обороняемой позиции под напором французов, потеряв около двадцати тысяч человек, при вдвое меньшем уроне у атакующих. Но Люксембург не стал гнаться за побеждёнными, так что Вильгельм сумел увести остатки армии, собрать подкрепления, и, удивительным образом, удержался на поле.
Один эпизод этого сражения особо интересен для нашего повествования. К тому времени герцог Бервикский поднялся до генерала французской армии, карьера его шла в гору. Шесть французских бригад шли в линию на первый штурм Нервиндена. Бервик, командовавший двумя бригадами центра, взял деревню и выбил неприятеля к дальней околице. Но тяжёлый огонь по открытой местности по обе стороны от деревни скучил четыре бригады правого и левого крыла в Нервиндене; все наступавшие на деревню силы французов попали в невыгодное положение, стали контратакованы союзниками с обоих флангов и выбиты прочь; Бервик с уцелевшими из его окружения остался на произвол судьбы. В конечном счёте - пишет Бервик - я оказался в полном окружении.[307] Поняв это, я решил уйти полями, сняв белую кокарду, притворившись неприятельским офицером. Именно ему вполне удалась бы такая затея: форма Бервика не сильно отличалась от союзнической, сам он был англичанином.
К несчастью, на место подоспел бригадир Черчилль,[308] брат лорда Черчилля, теперь герцога Мальборо, и мой дядя; он вспомнил [распознал] единственного бывшего со мной адъютанта и, заподозрив немедленно, что где-то поблизости обретаюсь и я, поспешил вперёд и взял меня в плен. После многих приветствий он сказал, что должен препроводить меня к принцу Оранскому. Мы долгое время скакали, пока не нашли принца на значительном расстоянии от места боя, в лощине, где он оставался скрыт от друзей и врагов. Принц сделал мне очень вежливый комплимент; я ответил одним лишь глубоким поклоном: он пристально глянул на меня раз, другой и надел шляпу - я надел свою; затем он приказал отвести меня в Левен.[309]
Бервиково описание местоположения Вильгельма при их встрече никак не порочит признанной храбрости короля кто в дальнейшем, увидев сражение загубленным, лично пошёл в отчаянную борьбу, пытаясь спасти день. Тем не менее, дальнейшее обращение Вильгельма с пленным, показывает, как сильно обозлил его Бервик, отказавшийся ответить на любезное приветствие короля. После сражения - пишет Бервик:
господин де Люксембург потребовал исполнить условия картеля, и вернуть меня по прошествии двух недель; он, со своей стороны, освободил под честное слово всех старших офицеров неприятеля, но, несмотря на это они удержали меня в Антверпене. Случилось, однако, что герцог Ормонд не мог самостоятельно воспользоваться свободой, данной остальным по причине своих ранений и господин де Люксембург уведомил врага, что не расстанется с герцогом, пока я не буду отпущен. Он также пригласил генерал-лейтенанта Скрейвмора и прочих офицеров вернуться в Намюр. Это возымело желаемый эффект, и я соединился с нашей армией в лагере в Нивеле. Определённо, принц Оранский намеревался отослать меня пленником в Англию, и накрепко заточить в лондонском Тауэре, пусть это и шло бы против всех законов войны: даже при его претензии на то, что я его подданный, и, соответственно, мятежник, он всё равно не имел права обращаться со мною подобным образом, потому что я не был пленён на принадлежащих ему землях. Мы были в стране короля Испании, я имел честь служить генерал-лейтенантом в армии христианнейшего короля, так что принц Оранский по всякому рассуждению был на этой земле иностранным наёмником.[310]
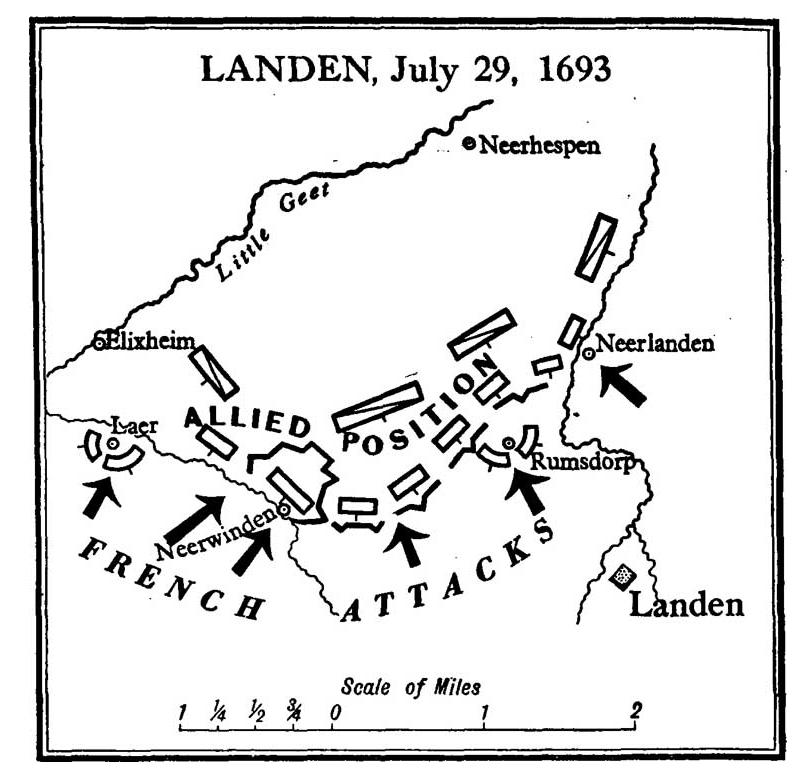
Бурные военные действия нашли множество откликов в душе Мальборо, затронув сокровенные его чувства, но он остался всего лишь зрителем.
В начале 1694 года Вильгельм и его советники задумали десантную операцию против Бреста.
Французов сложно было вынудить к генеральному сражению в открытом море; флот их невозможно было блокировать в гаванях на сколько-либо продолжительное время - ни в Бресте, в штормовых водах Биская; ни в Тулоне, в бурном Лионском заливе; так что король утвердился во мнении, что французский флот можно бить лишь в его собственных портах.[311]
Помимо этого соображения, союзники следовали определённой стратегии действий на северном побережье Франции, постоянно угрожая нападением с целью оттянуть войска и снаряжение с главного театра во Фландрии.
Секрет плохо хранился или был намеренно разболтан, став предметом повсеместных лондонских толков.[312] Сведения достигли Парижа. Уже в начале апреля, Людовик получил из нескольких источников информацию о намеченной атаке на Брест силами 7000 британских войск и соединёнными флотами Англии и Голландии.[313] Каким бы образом ни были получены эти сведения, они оказались точны даже в названной численности войск. 4/14 апреля, Людовик двинул к месту два кавалерийских полка, шесть батальонов береговой обороны и повелел Вобану тот инспектировал в те дни крепости Нормандии осмотреть оборонительные сооружения. Вобан исполнял приказы с тщанием, но без спешки; подкрепления подходили постепенно. Тем не менее, к концу мая Брест довели до полной готовности; на место, следуя приказам двухмесячной давности, успели десять-двенадцать тысяч регулярных войск. Французы предприняли контрмеры, положившись на доклады собственной разведки и шпионов; и меры эти стали известны на обоих берегах Канала. О приготовлениях знали якобиты в Сен-Жермене;[314] знал сам Вильгельм и его министры.[315] Тайная подготовка десантной операции равно со скрыто предпринятыми оборонительными мероприятиями выплыли наружу; французы подготовились, и заканчивали подготовки; английское правительство не сомневалось ни в том, ни в другом. Таким было положение дел в последнюю неделю апреля.
За историей дальнейших событий мы должны обратиться к бумагам Нэрна: к манускриптам, о происхождении которых говорилось в одной из предыдущих глав. Теперь все они хранятся в собрании Карта, в Бодлианской библиотеке и в них содержатся обвинения против лидеров революции, всего в восьми документах:
1. Мемуары Иакова
2. Инструкции Мелфорта.
3. Меморандум Ландена.
4. Отчёт Беркли.
5. Мемуары Сандерленда.
6. Письмо Аррана.
7. Доклад Флойда
8. Камаретское письмо.[316]
Мы обратимся к последним двум документам: тем, что касаются именно Мальборо.
Сен-жерменцы, что естественно, беспокоились о кредите у своих французских хозяев в смысле своих знаний об Англии, обо всём там происходящем. В марте, Флойд, камер-юнкер Иакова II, в очередной раз посетил Лондон. Он провёл переговоры со всеми ведущими персонами, к кому был вхож. По отчёту Флойда седьмой из восьми документов Нэрна в третью неделю апреля его приняли Шрусбери, Годольфин, Рассел, Мальборо, и все они изъяснились в духе пылкой преданности опальному суверену. Мальборо и Шрусбери, заявляет Флойд, не сказали ему ничего. Адмирал Рассел оказался приветлив и многоречиво-бессодержателен. Что бы вы сделали [чтобы помочь Иакову] спросил он у Флойда, в прошлом морского офицера если бы оказались на моём месте? Флойд ответил, что, в случае вторжения, он наверняка попробовал бы упустить французский флот, дав ему пройти. Адмирал сказал, что не сможет поступить так, пусть некогда и имел такое намерение. Затем Флойд как он пишет сам завёл разговор о Бресте.
Я сделал ему предложение: теперь, в преддверии лета, когда на берег Франции беспременно высадится некоторый десант, с целью оттянуть войска к Бресту или иным прибрежным местам в соответствии с планируемыми операциями, он мог бы передать его величеству [королю Иакову] сведения об этих планах, и [также][317] дать нам время для подготовки этим летом транспортов; а к осени, когда придёт время разоружать большие корабли и посылать конвои в Америку etc, он мог бы решить, какие корабли лучше оставить в Канале, и, соответственно, удержать там те, какие ему удастся переманить за лето на нашу сторону, а прочие увести в гавани или поставить в конвои; сделав так, он станет хозяином над оставшимися в Канале кораблями, перейдёт с ними к французам, и тем поможет переправе войск, что станут необходимы для сопровождения его величества в Англии.
Якобитский агент пробирается на ощупь, проверяя адмирала, смешивая в кучу вопрос о Бресте с общими рассуждениями о вторжении и реставрации, но действует с ясным намерением: Флойд говорит командующему флотом, что пришёл с заведомым знанием о том, какой план имеет на руках Рассел, и, подступившись с такой стороны, пытается извлечь дополнительные сведения. Рассел осторожно отступил за завесу уверений в любви и преданности. Он объявил, что действия его должны рассудить лорд Шрусбери и лорд Черчилль, и, говорит Флойд, Я более не смог вытянуть из него ничего вразумительного.
Затем Рассел попытал успеха у Годольфина, кто со всевозможной приязнью объяснил мне, какие чувства питает к вашему величеству. После упоминания о том, что есть серьёзные основания опасаться переговоров и мира уже этим летом, и мирные условия станут пагубными для вашего величества, так как принц обязательно попытается убедить христианнейшего короля выслать ваше величество из его владений, Годольфин, если следовать докладу Флойда, почти дословно повторил последнему те слова, какие сам Флойд произнёс в разговоре с Расселом. О сходстве можно судить по выделенным курсивом местам в обоих фрагментах. Годольфин, как написано в докладе, высказался так:
Рассел беспременно появится перед Брестом, офицеры армии уверены, что порт можно атаковать, хотя офицеры флота остаются при другом мнении; тем самым его христианнейшее величество получит замечательный предлог для отправки войск к угрожаемому пункту, и необходимые [для возвращения Иакова][318] транспортные суда могут быть приготовлены летом; что большим кораблям придётся вернуться к середине осени; что малые корабли будут рассредоточены, конвои разосланы в разные места, для поддержки торговли, и Англия едва ли найдёт тридцать достаточно сильных кораблей, так что должное время придёт и его величество сумеет им воспользоваться...
Сходство фраз; последовательность изложения; высказывание, где смешаны два совершенно разных плана: нападение на Брест и подготовка транспортов к дальнейшему, в том же году, возвращению Иакова; повторение явно любимого Флойдом слова беспременно, подсказали ряду комментаторов тот вывод, что доклад Флойда - выдумка, что он был неторопливо составлен в Сен-Жермене совместно Мелфортом и Флойдом, и передан в Версаль как непререкаемая истина о состоянии новейших английских дел.[319] Рассуждения автора призваны очистить имя Годольфина от очень старого и очень постыдного обвинения, но мы можем добиться того же, не прибегая к подобной версии. Мы можем допустить, что Флойд действительно вёл беседы со всеми, кого упомянул в докладе; что он тщательно записал впечатления от разговоров, оставшиеся в памяти. Мы можем даже принять на веру то, что отчёт Флойда о встрече Годольфиным точен, никак не посрамив верности министра родной стране; королю, коему он служил; правительству, где он был одним из главных деятелей. Вовсе не странно, что министры и военные командиры, вовлечённые в общие предприятия, связанные общим долгом, могущие получить многое от успешного исполнения обязанностей и потерять всё при провале или ошибке, часто совещались, и толковали о делах со всей откровенностью товарищей по узкому, кабинетскому кружку. В обстоятельствах того времени, их тесное и постоянное общение, едва ли отражённое в хрониках, становилось зачастую главной пружиной событий. Из флойдова текста явствует, что четверо мужчин, трое на вершинах исполнительной власти и четвёртый, Черчилль, пусть и без офиса и не при фаворе, но друг и доверенный человек, следуют единой политике, общаясь с посланцем изгнанного короля. В соответствии с рассказом Флойда, все они ведут одну линию и говорят одни и те же вещи друг о друге. Например, Рассел: О моих действиях должны судить Шрусбери и Черчилль. Когда Флойд стал настаивать на более определённых обязательствах, Рассел ответил, что полагает, что и без того сказал о многом. Эти же слова повторяются в изложениях Флойдом бесед с Черчиллем и одним из резидентов шпионской сети, генерал-майором Саквилем. По их единому мнению, Рассел сказал о многом. Следуя Флойду, то же подтвердил и Годольфин. Рассел по его мнению, сказал всё, что можно было ожидать от него.
Куда примечательнее то, что Годолфин, почти дословно повторяет за Флойдом слова, коими сам Флойд пытался вызвать на откровенность Рассела. И совпадение это не может быть отнесено за счёт случайности. Напрашивается простое объяснение. Резонно предположить, что ещё до визита Флойда к Годольфину, Рассел рассказал последнему о том, что знает Флойд, и Годольфин в точности знал, насколько далеко может зайти, не повредив государственным интересам. Отсюда явствует, что дело с Флойдом стало предметом обсуждения между всеми министрами. Не исключено, что они передали какую-то часть этих разговоров королю Вильгельму.
Как мы увидим далее, поведение Вильгельма после провала и трагедии под Брестом, вполне согласуется с нашими предположениями. И, как бы то ни было, ход событий всегда оставался под контролем английских властей. Они знали, что план их стал известен. Они знали о том уже до визита Флойда к Расселу. Если один порт подготовлен к обороне, другими вполне могли пренебречь. Возбудить в неприятеле тревогу вплоть до открытого объявления намерений именно так обыкновенно и действовали, угрожая вражескому побережью. Альтернативно, самые доброжелательные изъявления, доложенные во Францию, могли отвести французские подозрения от некоторого конкретного пункта. В любой момент Вильгельм мог остановить движение флота или направить корабли по другому назначению.[320] Те люди не были простофилями, но государственными мужами при скромных возможностями в тисках необыкновенных трудностей; и им удалось разрешить путаницу самых сложных проблем войны и мира, успешно высвободив страну из тяжелейшего времени. Окончательное решение об отправке флота стало, несомненно, принято при полном понимании того, что французы узнали об ударе по Бресту, и вполне могли подготовиться к встрече.
Восьмая из бумаг Нэрна лежит в основании обвинения против Мальборо. Как то заявляют, это перевод на французский язык письма генерал-майора Саквиля: а Саквиль переправил королю Иакову письмо от Мальборо. Приводим здесь факсимиле письма[321] и обратный перевод на английский:
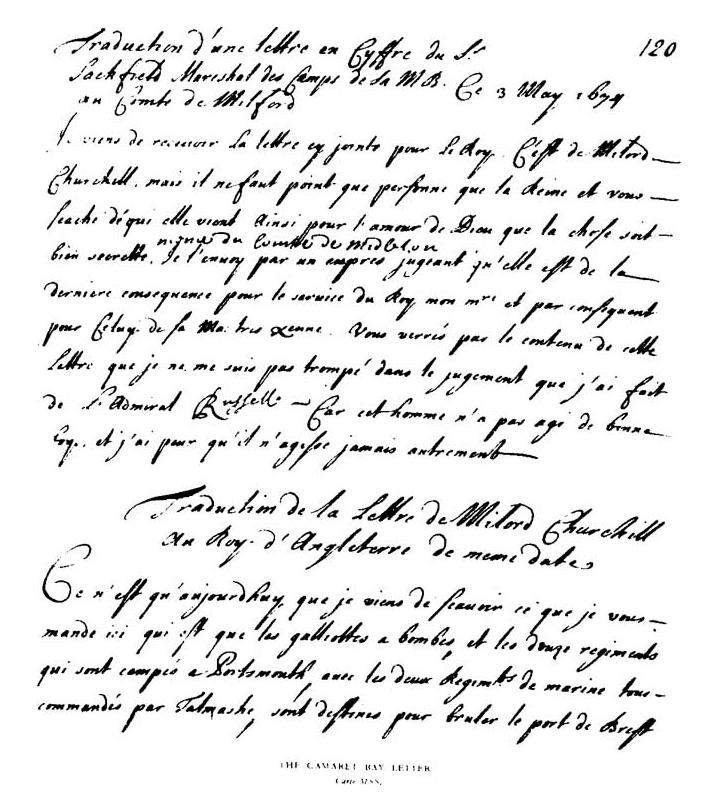
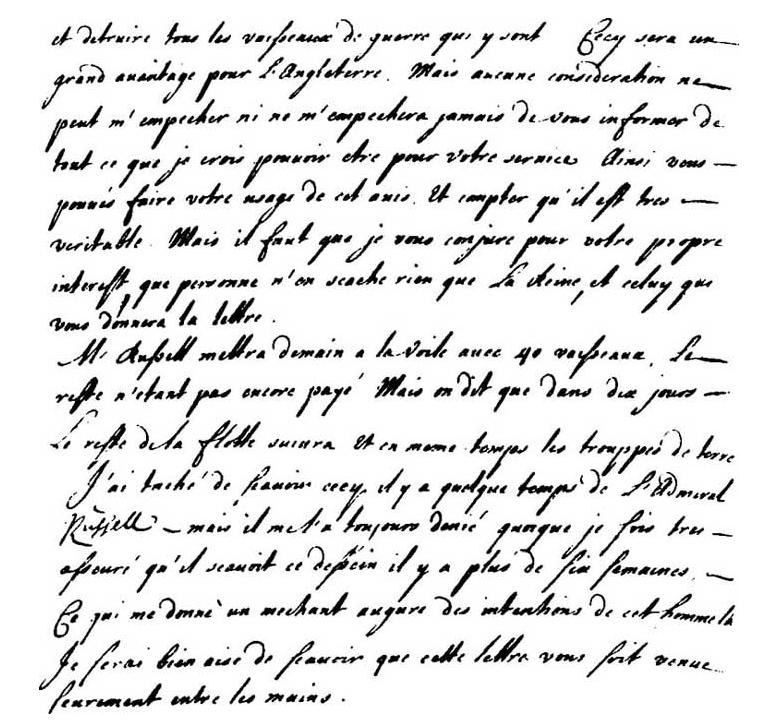
3 мая 1694.
Во вложении письмо для короля, я только что получил его. Письмо от лорда Черчилля; но ни один человек, кроме королевы и вас не должен знать автора. Поэтому, ради Бога, держите его в полной тайне даже от лорда Мидлтона. Я пользуюсь срочным отправлением, полагая, что это письмо сослужит важнейшую службу королю, моему господину; а, следовательно, и службу его христианнейшему величеству. Вы увидите из содержания, что я не обманулся в своём суждении об адмирале Расселе: человек этот действует не с честными намерениями и, боюсь, никогда не станет вести себя иначе.
Перевод письма лорда Черчилля королю Англии, от того же числа.
Только сегодня узнал новость, кою теперь сообщаю вам; итак, кечи с бомбическими орудиями и двенадцать полков собраны в Портсмуте, вместе с двумя полками морской пехоты, всеми командует Талмаш,[322] назначение - сжечь порт Брест и уничтожить все оказавшиеся там корабли. Если исполнится, Англия получит большую выгоду. Но я сообщаю вам всё, что, верю, может послужить вашему делу, и никакие соображения не останавливают, и не остановят меня. Поэтому вы можете использовать эти сведения по своему усмотрению, полностью полагаясь на их истинность. Но умоляю вас о том, чтобы вы, в собственных своих интересах, не сообщали об этом послании никому, кроме королевы и подателя письма. Рассел отходит завтра с сорока кораблями, оставшиеся готовятся, но, говорят, за ним в десять дней последует остальной флот; и, одновременно, сухопутные силы. Некоторое время тому назад я пытался узнать хоть что-то об этом деле у адмирала Рассела. Но он всё отрицал, хотя я совершенно уверен в том, что он знает о плане уже шесть недель, а то и долее. Это даёт мне причину нехорошо думать о его намерениях. Буду очень признателен, если смогу убедиться в том, что письмо благополучно попало вам в руки.
Таково губительное свидетельство. Именно этот документ увенчивает клеветы, нагромождённые Маколеем против Мальборо. Маколей принимает подлинность письма в несказанной радости, и подаёт его в самой сенсационной и злобной манере. Он умалчивает обо всех иных каналах, какими получал сведения французский король, хотя, разумеется, знает о них. Он умалчивает обо всех предыдущих приготовлениях, сделанных французами. Мальборо, один лишь Мальборо выдал секрет неприятелю. Французы предприняли контрмеры, основываясь на его и только на его сведениях. И вся вина, всё бесчестье случившегося затем несчастья падает на его, и только на одну его голову. Помимо обыденной, привычной измены королю Вильгельму и своей стране архипредатель Мальборо стяжал в этом случае особую, персональную, преступную заслугу.
Но Мальборо никогда не был так мало якобитом в день, когда сослужил столь отъявленную и постыдную службу якобитизму. Можно со всем основанием утверждать, что служба династическим изгнанникам не была в то время его целью; что если он и тщился завоевать доверие изгнанников, такое намерение в те дни отошло для него на второй план. В первую очередь, он желал прорваться к службе в действующем правительстве, завладеть влиятельными и доходными постами, откуда был изгнан двумя годами ранее. Он знал, что страна и парламент устали терпеть иностранных генералов, командующих английской армией, и что только два англичанина могут претендовать на высшие военные посты: он сам и Талмаш. Если Талмаш потерпит поражение и примет бесчестье, у Вильгельма не останется выбора. В самом деле, как только пришли сведения о том, что экспедиция провалилась, и что Талмаша нет более среди живых, поднялся общий глас: король, по солидарному мнению, должен был вернуть благоволение испытанному воителю, кто так хорошо послужил под Валькуром, Корком, Кинсейлом.[323]
Защитники и апологисты Мальборо потрудились указать на множество неправд в Маколеевых трудах, и перенесли вину за случившееся на других. Современные критики - как то сказано - обходят низость Годольфина, чтобы бить по славе Мальборо.[324] Но обвинять Мальборо в том, что он метил в другом направлении, думая о собственной, уникальной незаменимости после краха или смерти Толлемаша, значит приписывать Мальборо дар ясновидения: как мог он знать наперёд, что Толлемаш станет атаковать, обнаружив цель готовой к обороне; что Толлемаш сам высадится на берег и пойдёт во главе войск; что он потерпит неудачу, будет убит или смертельно ранен? Паджет, Уолсли и полковник Ллойд[325] обратились к доказательствам того, что французы получили информацию помимо письма Мальборо; что они предприняли контрмеры самое позднее за месяц до письма; что Мальборо знал от Годольфина о том, что французы не сомневаются в замысле; что он лишь тщился укрепиться в доверии Иакова II, открыв тому то, что изгнанник уже знал; и что Мальборо медлил с отсылкой письма, пока не уверился в том, что оно придёт слишком поздно и никак не скажется на ходе событий. Такая точка зрения вполне воспринята позднейшими авторами и комментаторами.[326]
Такая оборона вполне годится против маколеевых клевет и красот слога, но допускает в Мальборо бесчестность намерения, пусть и не действия. Приписываемое ему письмо содержит точные данные. Пусть Рассел отплыл не назавтра, а через день - он мог вполне задержаться, и, на деле, задержался - на долгое время, атака прошла лишь через месяц. И пусть письмо не повлияло на ход событий - оно вполне могло бы и повлиять. И если такое письмо в самом деле было написано, на личности Джона Черчилля лежит несмываемое, губительное пятно. Правила поведения, моральные нормы - частной и общественной жизни - изменяются с веками, человек по большей части детище своего окружения. Привычки и обыкновения делают своё дело. Злоба дня предъявляет повелительные требования. Чёрные дела дают всходы драконьих зубов. Когда мы имеем дело с иной атмосферой взглядов, мы обязаны делать многие скидки. Но в каждый век неотзывным обязательством была и останется верность генерала боевым товарищам; солдатам, кого он водил в бой и поведёт снова. Честь солдата одинаково понималась во времена королевы Анны и королевы Виктории. Мальборо был солдатом по рождению и воспитанию. Он служил с юности, дома и заграницей, в мирное и военное время, проходя звание за званием. Он получил профессиональную подготовку, пропитался лагерным и полковым духом. Никто и никогда не оспаривал его храбрости и человечности. О них заявляют и самые злобные инсинуаторы. Его заботы о быте и жизнях солдат остались неизменными вплоть до последней из кампаний Мальборо. В шестьдесят два года - герцог, князь, генералиссимус, миллионер - он ходил по траншеям, линиям, лично являлся на всякое опасное, атакуемое место, чтобы собственными глазами удостовериться в том, что люди его не брошены, что им не поручили неисполнимой задачи. Более того, он гордился тем, что разделяет их труды; он желал видеть в солдатах любовь и доверие.
Возможно ли, чтобы в одном человеке соединились замечательные военные доблести, строжайшие соображения военного долга и подлые наклонности к военным преступлениям? Мог ли он - по причине незначительной, ради неопределённого и пустякового выигрыша - подло предать товарищей, обречь сотни солдат на смерть? Столь странные несовместимости могут ужиться в мозгах маньяка, чудовища. Трудно согласиться с тем, что так был устроен здравомыслящий, весьма уравновешенный ум. Более того, политическая обстановка 1693-94 года никак не подвигала Мальборо к действиям против правящей в Англии династии. Все его близкие друзья были во власти или постепенно возвращались во власть. В августе 1693 года он принял участие в секретном совещании в Элтопе, где собрались Сандерленд, Шрусбери и прочие лидеры будущей вигской хунты. Он успел предпринять попытку к примирению королевы с принцессой Анной, и в те самые дни добился официальной встречи двух сестёр. Наконец, он, вместе со Шрусбери и Годольфиным, был крупнейшим подписчиком на ценные бумаги Банка Англии, стяжав тем нежно любимый барыш от поддержки нового режима.[327] Военная честь, политическое окружение, денежные интересы - всё говорит против топорного и глупого предприятия, в коем его обвиняют. И прежде чем согласиться с неразумными выводами, нам стоит со вниманием изучить пресловутое письмо.
Читая труды противников и защитников Мальборо, мы вполне уверяемся в том, что оригинал письма существует; что в архивах Стюартов, либо в собрании Карта в Бодлиане хранится свидетельство бесчестья, документ, написанный характерным, аккуратным почерком Мальборо. Далримпл, однако, пишет:
Оригиналов последних двух писем [Саквиля и Мальборо] нет в Скотс Колледже, Париж: там хранятся два других документа, но копии обнаруживаются среди иных официальных документов: в бумагах Нэрна, помощника государственного секретаря лорда Мелфорта; при этом, в одной из копий имеется межстрочная вставка руки лорда Мелфорта. В мемуарах Иакова я нашёл собственноручную запись короля о том, что 4 мая лорд Черчилль передал ему сведения о брестском плане. Глава Скотс Колледжа в Париже, Гордон, рассказал мне, что в период вражды между герцогом Мальборо и лордом Оксфордом в конце правления королевы, лорд Оксфорд получил тайную информацию о письме герцога, притворявшегося в то время приверженцем изгнанной династии, затребовал письмо, и получил его в оригинале; потом дал герцогу знать, что держит жизнь его в своих руках и это стало причиной добровольного удаления герцога в Брюссель в 1712 году; несомненно, что такой неординарный шаг, как добровольное изгнанничество должен был иметь подоплёкой и неординарную причину. Из истории тех времён известно о тайной встрече герцога и лорда Оксфорда после которой герцог немедленно покинул Англию; встреча состоялась в доме мистера Томаса Харли, куда герцог вошёл через заднюю дверь. Я также слышал от покойного архиепископа Йоркского, внука графа Оксфорда - сам он узнал об этом понаслышке - о том, что после смерти двух указанных персон герцогиня Мальборо постаралась изъять письмо из бумаг лорда Оксфорда, и уничтожила его.[328]
Мы видим, как простое сведение о том, что оригинала письма не существует, используется для усугубления вины человека, уже обвинённого в том, что он написал такое письмо. Если доказательство существует, он виновен в измене; а если не существует, он или его жена повинны в уничтожении улики. Таков Далримпл, рассказы которого имеют успех у читателей нескольких поколений.
Иная, хотя и похожая история обнаруживается в автобиографии Шелбурна, напечатанной в Жизни Шелбурна Фицмориса.[329]
Когда лорда Оксфорда послали в Тауэр, граф Бервик, чем-то ему обязанный, послал узнать, может ли он как-то помочь, и через несколько времени отправил Оксфорду оригинал письма герцога Мальборо к Претенденту, чтобы узник использовал документ к своей пользе, по своему усмотрению. Лорд Оксфорд спросил у своего адвоката, саржента Камминса, совета о том, что здесь можно предпринять: тот сказал, Замечательно; советую вашему лордству отдать это вашему сыну, лорду Харли, и послать сына к его сиятельству, герцогу Мальборо, но, зная, что с такими вещами иногда что-то происходит - их похищают или уничтожают - я придержу оригинал и пошлю точную копию. Соответственно, лорд Харли навестил лорда Мальборо, сказав, что пришёл к его сиятельству по поручению отца с некоторым письмом, и затем замолчал. Герцог внимательно прочитал бумагу и ответил: Милорд, это не моя рука. Оригинал у моего отца - сказал лорд Харли; на это последовал вежливый поклон и ничего более; но судебное преследование стало прекращено через несколько недель.
Противоречивый вариант этой истории можно найти у Сьюарда.[330]
Итак, мы имеем фабулу о некотором смертельно опасном письме, что имело силу орудия шантажа против герцога Мальборо - величайшего тогда человека среди живущих, во всей его славе. Сначала Далримпл рассказывает нам, что убоявшись пресловутого письма, предъявленного лордом Оксфордом, Мальборо убегает в Брюссель в 1712 году. Затем, в 1715, для запугивания послан сын лорда Оксфорда, после чего отец посланника освобождён от наказания. Очевидно, что если в 1712 году Оксфорд, тогда премьер-министр, заполучил роковой документ и Мальборо, немедленно распознав оригинал, ужаснулся так, что немедленно умчался из страны, тот же Оксфорд в 1715 году, давно имея на руках названный документ, не имел никакой нужды слать копию с сыном. В 1715 году Мальборо должен был знать, что документом владеет Оксфорд, успевший употребить письмо против него прежде, в 1712 году. Отсюда мы можем заключить, что это одна и та же скандальная история, рассказанная двумя разными авторами, кто достигли равенства в злобе и клеветах, но совершенно разошлись в обстоятельствах времени и образа действия.
Версии Шелбурна и Сьюарда можно с лёгкостью опровергнуть, основываясь на некоторых первостепенных исторических фактах. Читаем:
В марте [1716] лорд Оксфорд, главным образом по совету лорда Тревора, вполне решился ходатайствовать перед палатой лордов о разбирательстве своего дела. Узнав об этом, герцог Мальборо не говорил уже ни о чём, но лишь о Билле об опале или о Билле об изгнании.[331]
В мае 1716, когда виги до некоторой степени удовлетворились кровью пленников Престона, герцог Мальборо стал требовать и, в меру своих возможностей, продвигать Билль об изгнании против графа Оксфорда. Мистер Уолпол и лорд Таунсенд приписывают себе ту заслугу, что воспротивились, и предотвратили принятие билля. Герцог очень ярился, гневаясь на тех, кто не подчинились ему, удалился из столицы в Сент-Олбанс, и там получил первый удар болезни, что со временем свела его в могилу; прошло долгое время, прежде чем он восстановил речь, но ум его никогда уже не стал прежним.[332]
Прекрасный пример бесплодности всех клевет против Мальборо. Читатель волен выбирать между зрелищем того, как герцогу предъявляют угрозу огласки, и шантажируют до полной беспомощности; и тем, как он, со страстью, приведшей к апоплексическому удару, яростно идёт путями мщения. Любой сюжет вполне годится для того, чтобы опозорить этого человека. Но если принять за правду последнюю из приведенных здесь неприятных версий, она полностью противоречит тому, что написано в мемуарах Шелбурна. Два обвинения взаимоуничтожаются. На деле, обе версии ложны. Факты о раздоре между Общинами и Лордами, что поначалу завёл парламент в тупик и привёл к конфликту, а затем к оправданию Оксфорда в Лордах, ясно изложены в любом общепризнанном труде об этом периоде. После 1715 года Мальборо быстро слабел умственно и физически. И пусть его восстановили в должности главнокомандующего, он уже не был вхож во внутренний круг приближенных лиц. Он не имел ни власти, ни возможностей, чтобы влиять на замысловатый и переменчивый ход диспута между Палатами. К тому времени, публикация пресловутого письма никак не угрожала его состоянию, свободе и жизни. Прошли двадцать лет, и Мальборо успел расписаться в верности протестантскому делу и революции 1688 года своим мечом на европейских полях сражений.
Вся эта история - переплетение подделок и обманов, слухов и клевет; мусор, собравшийся у подножия величия и власти, вокруг предмета зависти. Немногим общественным деятелям любого современного государства удаётся дойти до наивысших положений без того, чтобы грязные уста не стали нашёптывать в развешанные уши стыдные о них истории. Этот коррупционер; или он аморален; или как-то по-другому испорчен. Поганые россказни, неотъемлемая тень всемирного признания звучат в каждой стране, в клубах, трактирах и кабаках. И вот приходят историки и, за неимением лучшего материала подхватывают скандальную болтовню, вроде той, что то и то услышано от мистера Эдакого, кто говорил, что дед его слышал от епископа NN что у жены его было письмо; и если бы это письмо не стало по несчастью утеряно, или уничтожено, или выкрадено, или нечестно выкуплено, то... etc., etc., etc....
Ясно, впрочем, что в Сен-Жермене никогда не получали пресловутого письма в собственноручном исполнении Мальборо. Всё, что осталось, существует лишь в виде документа, представленного здесь в факсимиле. Документ озаглавлен следующим образом: Перевод [то есть, переложение на французский] тайнописного письма от мистера Сакфильда [Саквиля] генерал-майора его британского величества графу Милфорду [Мелфорт].
Документ хранится среди манускриптов Нэрна. Его ни разу не складывали для пересылки. Это французский перевод расшифровки - как то предполагается - зашифрованного английского текста, тайнописи, отправленной Саквилем во Францию: возможно в виде крошечного рулончика, спрятанного в шляпе, одежде; не исключено даже, что и под видом пистолетного пыжа. И как, если прибегнуть к предположениям, было подготовлено такое сообщение, если оно существовало в действительности? Совершенно невероятно, чтобы Мальборо, неусыпный и умелый конспиратор, коего нам изображают закоренелым заговорщиком с головою на кону; Мальборо, мастер стратегии и манёвра - а именно таким он и был на самом деле - чтобы такой человек мог при доступных ему простых и безопасных альтернативах написать подобное письмо Саквилю и выпустить из рук, отослав с обычным посыльным. О письмах такого сорта внимательно позаботится любой человек; простой уголовник и тот был бы более осторожен.
Следовательно, нам неизбежно предположить, что два человека сошлись в Англии, где дело, если и было когда либо сделано, стало исполнено; что они совместно составили оба письма; что Саквиль, владевший шифром, зашифровал бумаги; что все следы оригинальных черновиков были тщательно уничтожены в ночь 3 мая 1694 года. И если следовать таким, очевидным соображениям, у Мальборо не было никакой необходимости медлить с уничтожением письма полвека, предоставив это дело запоздалым усилиям герцогини. Тем самым, мы приходим к заключению о том, что собственноручного письма Мальборо никогда и ни в каком виде не существовало; или, по меньшей мере, подобный документ ни на секунду не попал в употребление или обладание никого другого в целом свете.
И если мы примем такую точку зрения, мы значительно продвинемся в разъяснении всего дела. Свидетельство против Мальборо подвешено на длинной цепочке, каждое звено которой, судя по всему, подделано якобитскими недругами. Саквиль, Мелфорт, Нэрн, Диконсон: все эти персонажи нашей истории потрудились над обесчещиванием и обесславливанием Мальборо, имея для того и досуг, и свободу рук. Они оставили после себя то, что вольны были написать, ничто иное не уцелело, и писания их стали ключевыми материалами для историков. Но, к несчастью, у них не было письма самого Мальборо. Им пришлось самим делать всю письменную работу. Далримпл, Макферсон, Маколей, вывели из этого письма целую паутину обвинений, но самого письма не существует, и никогда не существовало. А существует лишь документ среди манускриптов Нэрна предполагаемая копия с расшифрованного послания от Саквиля к Мелфорту, где Саквиль докладывает письменное, или, возможно, изустное сообщение, которое он якобы получил от Мальборо. Дурная слава пристаёт крепко, но такого обвинения мало и для дурной славы.
Но, говорят, есть и второй свидетель. Это сам Иаков. Макферсон пишет: В мемуарах короля Иакова есть запись, сделанная по получении письма в собственные его руки. 4 мая лорд Черчилль передал королю сведения о брестском плане (Макферсон приводит даже и страницу 521). Макферсон говорит, что видел это в мемуарах, но мистер Фокс никогда не показывал ему этих мемуаров так свидетельствовал сам мистер Фокс в 1802 году. Впрочем, Далримпл отчасти подтверждает Макферсона в процитированном выше отрывке: В мемуарах Иакова я нашёл собственноручную запись короля о том, что 4 мая лорд Черчилль передал ему сведения о брестском плане.
Cобственноручные воспоминания короля Иакова обрываются 1660 годом, а Диконсон приступил к созданию Жизни лишь через несколько лет после смерти короля в 1702 году. Воспоминаний, охвативших период правления Вильгельма нет; и в 1694 году или затем король не мог оставить пресловутой обвинительной записи в несуществующей тогда Жизни Иакова, да и вообще нигде. Что же тогда видели Макферсон и Далримпл? Несомненно, Диконсонову Жизнь; то есть работу, появившуюся пятнадцатью годами позднее; текст, где есть запись, приписываемая Иакову и исполненная имитацией его почерка позднейшая, посмертная вставка, сделанная некоторым якобитским переписчиком с целью подкрепить обвинение против герцога Мальборо. И то, что они видели, на деле оказывается тем, что Маколей называл одной из тысяч фикций, выдуманных в Сен-Жермене с намерением опорочить персону, кто черна и без таковой мазни. Они могли видеть и королевские мемуары в 3-х томах ин-кварто: материал 1686 года, расшифровку почти нечитаемых записок Иакова Драйденом, переписанную набело и переплетённую Луисом Инессом; материал, озадачивший мистера Карта; они могли видеть эти тома, не заметив или не имея возможности заметить, что изложенная там история не идёт дальше 1660 года. Но как бы то ни было, ясно, что они обманулись или сами прибегли к обману, распространив ложь, морочащую дальнейших авторов на протяжении уже пяти или шести поколений; ложь, послужившую оселком, для изострения орудий клеветы.
После данных выше объяснений едва ли имеет смысл распространяться долее. Но ради иллюстрации того, что у лжи короткие ноги, читателю стоит увидеть различия в соответствующем месте Макферсона и Далримпла. Макферсон в яром стремлении оклеветать Мальборо пишет, что Иаков сделал запись по получении письма, в то время как более осторожный Далримпл говорит лишь то, что 4 мая Черчилль передал ему сведения, etc, без указания, когда именно пришло письмо. Конечно же, Камаретское письмо не могло оказаться у Иакова 4 мая. Саквиль датировал его 3 мая. Здесь, определёно, стоит дата по старому стилю, потому что в приписываемом Мальборо письме говорится о том, что Рассел отходит завтра, а мы знаем, что флот, на самом деле, ушёл в море 5-го (по старому стилю). Неоспоримо, что в те времена, послание, отправленное из Лондона 3-го числа никак не могло прийти в Сен-Жермен раньше 7 или 8-го; а если бы оно было отправлено с правительственным курьером 6-го. Для срочной пересылки требовалась согласованная работа курьеров с той и другой стороны; судно, отправленное ко времени; благоприятная погода. 8 мая по старому стилю 18 мая по новому. Во время пребывания в Сен-Жермене, Иаков, Нэрн, Диконсон и прочие, жили, со всей определённостью, по новому календарю, на французский манер. Тем самым Иаков никак не мог сделать записи по получении письма ни в Диконсоновой Жизни - даже если бы она и была к тому времени написана ни в каком-либо ином документе. И если Иаков когда-либо сделал подобную запись, то, очевидно, по некоторому другому поводу но тому нет ни свидетельства, ни намёка. Во всех иных случаях запись должна быть сочтена ложной. Письмо как значится в самом его тексте - не было написано 4 мая; письмо никак не могло быть получено 4 мая.
Исходя из того, что (a) оригинала Камаретского письма не существует и, (b) обвинение против Мальборо основано единственно на послании Саквиля - тайнописи, что была расшифрована Мелфортом и переведена Нэрном - обратимся теперь к самому тексту письма.
Прежде всего, отметим межстрочную вставку после третьей строки о том, что письмо должно быть удержано втайне от всех, даже от лорда Мидлтона [meme du Comte de Middleton]. Это не рука Нэрна, но почерк Мелфорта. Многозначительный факт. Именно в те дни лорду Мелфорту было особо, жизненно необходимо доказать собственную ценность и незаменимость. Якобитская верхушка раскололась, распалась на Соглашателей и Непреклонных; первые высказывались за отзывчивость протестантским требованиям, за конституционное правительство после реставрации; вторые твёрдо придерживались крайних католических взглядов. Протестант лорд Мидлтон выступал рупором и главою Соглашателей; лорд Мелфорт Непреклонных. За десять с лишним лет Мелфорт растерял доверие Иакова. Мидлтон прибыл в Сен-Жермен осенью 1693 года, став вторым государственным секретарём на пару с Мелфортом. И скорое его назначение единственным госсекретарём казалось решённым делом. С политической точки зрения, Мелфорт попал в самое затруднительное положение. В начале того самого мая месяца, через три дня после объявленной им самим даты получения Камаретского письма, он был лишён офиса и назначен на пост куда скромнее прежнего: секретарём королевы. Мария Моденская, неизменно истовая и фанатичная католичка, попав в изгнание, погрузилась в политику, в самое средоточие якобитских интриг. Судя по всему, она посвятила себя заботам секретной разведывательной деятельности, и занималась этим куда пристальнее супруга. Мелфорт мучительно переживал увольнение. Его оправдание собственных дел на министерском посту, написанное 7/17 мая того самого мая показывает состояние мелфортова рассудка. Он долго сидел в самом центре паучьей сети тайного шпионажа, заговоров, и расставание с привычным занятием стало для него сильнейшим ударом. И то, что на смену ему пришёл глава протестантских якобитов, добавило к мукам Мелфорта и к скорби королевы, кто предложила ему убежище в случившемся несчастье.
Иаков был привязан к Мелфорту, но сказались императивные политические причины, и он расстался с ним, сменив на государственного секретаря - протестанта. Подобные резоны обыкновенны для наших дней. Без поддержки английских протестантов-якобитов ни о какой реставрации не стоило и мечтать. Мидлтон, человек безусловно честный, пользовался уважением и доверием очень многих вигов и антикатолически настроенных тори. Если бы реставрация свершилась, все протестанты, ненавидящие голландца Вильгельма, и лидеры революции - входящие или нет в круг королевских советников - нашли бы именно в личности Мидлтона гарантию того, что вернувший корону Иаков не повторит глупостей, каким был привержен в прежнее, краткое царствование. Именно Мидлтон наладил существующие отношения с английскими министрами. Итак, Мелфорту пришлось уйти, и преданность Риму, невзирая даже и на злобу королевы, на время и вынужденно уступила практическим соображениям политики. Горькие чувства Мелфорта к сопернику и преемнику нашли в оппоненте горячую взаимность. Мы обнаруживаем, как 3 октября того же года Мидлтон пишет соратнику-соглашателю: Я хотел бы [надеяться], что лорду Мелфорту не удастся плюнуть в нашу похлёбку: ведь если министры вообразят, что он имеет касательство к предлагаемому ныне, мы можем более не думать о дальнейшем.[333]
Так зачем - спросим мы себя - Мальборо так беспокоился о переписке именно с Мелфортом, а не с Мидлтоном? В меру вовлечённости в якобитское дело, Мальборо всегда воспринимался соглашателем. Несомненно, именно по его совету биограф Иакова, Диконсон, переработал декларацию Иакова в смысле защиты прав парламента и интересов англиканской церкви. Почему, с какой целью, он - в единственном документе, что претендует быть хотя бы и копией письма - зачем он делает в этом, самом пагубном из всех документов, ту оговорку, что письмо нельзя показывать лорду Мидлтону, главе соглашателей? Понять такое не в человеческих силах. По всем якобитским соображениям, Мидлтон был связью Мальборо, и Мидлтон шёл к власти. Мелфорт не был связан с Мальборо; наоборот, Мидлтон был главным оппонентом тех взглядов, что приписывают Мальборо; и Мелфорт уходил от власти. Зачем же он, именно в этом деле, связывался с Мелфортом, именно в этом эпизоде, а ни в каком из прочих? С другой стороны, причины, по которым Мелфорт мог приписать Мальборо таковое желание, очевидны.
Предположение о том, что Мелфорт сделал приписку к тексту письма, намереваясь возвыситься в собственном значении за счёт Мидлтона, выглядит неоспоримым, вопиющим фактом. Напрашивается вопрос: ограничился ли он одной этой вставкой? Забавно, но семь лет спустя, как мы увидим по ходу дальнейшего повествования, Мелфорт попал в конфузное положение с жульнической операцией над другим письмом. В 1708 году, к Мальборо поступило сообщение от одного из домочадцев Мелфорта о готовящейся французами операции в Шотландии. Сен-Симон, хорошо знавший Мелфорта, неизменно подозревал его в нечистой игре. Таким был человек, под чьим надзором Нэрн написал Камаретское письмо.
Следующее свидетельство фабрикации обнаруживается в подзаголовке. Перевод письма лорда Черчилля королю Англии от того же числа.[334] Мальборо никогда не отходил от церемонного слога в обращениях к королю. Он никогда не адресовался к королю на вы, не писал вы можете использовать эти сведения по своему усмотрению, или Но умоляю вас о том, чтобы вы, в собственных своих интересах.... Саквиль, одновременно и с той же поспешностью писавший всего лишь государственному секретарю, соблюл все положенные формы обращения, и тщательно зашифровал службу королю, моему господину... и службу его христианнейшему величеству. Почему, зачем, Мальборо писал королю, как равному?
И что за смысл в словах Малборо о подателе письма? О письме должны были знать лишь этот податель и королева. Короля умоляют (в собственных его интересах) следовать таковому предписанию. О каком подателе речь? Кто это - посыльный? Но письмо было зашифровано. Возможно, сам Мелфорт? Но как мог Мальборо, писавший в Англии, знать что подателем станет именно Мелфорт, и почему он называет государственного секретаря таким непочтительным термином? Разумного объяснения не существует.
И если вы, читатель, обернётесь напоследок к письмам Саквиля-Черчилля, вас непременно поразит странное созвучие и в смыслах и в несуразностях. Саквиль: ...но ни один человек, кроме королевы и вас не должен знать от кого оно пришло. Поэтому, ради Бога, держите его в полной тайне.... Черчилль: Но умоляю вас о том, чтобы вы, в собственных своих интересах, не сообщали об этом послании никому, кроме королевы и подателя письма. Саквиль об адмирале Расселе: человек этот действует не с честными намерениями, и, боюсь, никогда не станет вести себя иначе. Черчилль: Некоторое время тому назад я пытался узнать хоть что-то об этом деле у адмирала Рассела. Но он всё отрицал, хотя я совершенно уверен в том, что он знает о плане уже шесть недель, а то и долее. Это даёт мне причину нехорошо думать о его намерениях. И снова Саквиль, непоследовательно отбрасывая секретность, на которой только что настаивал: Я пользуюсь срочным отправлением, полагая, что это письмо сослужит важнейшую службу королю, моему господину; следовательно, и службу его христианнейшему величеству. И Черчилль, с такой же непоследовательностью: Поэтому вы можете использовать эти сведения по своему усмотрению, полностью полагаясь на их истинность. Они синхронно идут в ногу; синхронно сбиваются в шаге.
Трудно поверить в то, что два этих письма писались независимо. Нам приходится выбирать между двумя теориями: Черчилль и Саквиль составляли их вместе в Лондоне или Нэрн и Мелфорт, тоже совместно и в Париже - тексты свидетельствуют в пользу одновременного своего рождения. Но на какой стороне Канала они родились? Нет никаких причин отрицать их сен-жерменское происхождение. Мелфорт уже несколько недель как знал о Брестском плане. Его агент, Флойд, во время визита в Англию провоцировал этими сведениями адмирала Рассела. Рапорт Флойда о беседах с Расселом и Годольфиным был в распоряжении Мелфорта. Возможно, что он знал и о французских контрмерах по укреплению города, о подкреплениях, поданных к Бресту. Подробности, сообщённые якобы Черчиллем, могли быть без труда доставлены любым рядовым шпионом. Любой умелый агент, прогулявшись по лагерям на Портсдаун-Хилс или по Портсмутской верфи, увидел бы в первые майские дни погрузку войск и узнал о грядущем отходе флота. Уже в апреле во французском военном министерстве знали точную численность экспедиционных сил - семь тысяч. Доклад этот вполне мог дойти до Сен-Жермена. Единственной тайной осталось место назначения экспедиции; секрет был задолго раскрыт, выдан, выболтан, но цель атаки могли изменить в любой момент. Итак, в письме нет ничего незнаемого Нэрном и Мелфортом, и им было вполне по силам создать этот документ и передать его Марии Моденской, Иакову и Людовику. Нужда была не в информации, но в авторитете: в том, чтобы связать сведения со знатным англичанином; в некотором имени, что помогло бы письму беспрепятственно пройти в высший круг, привлечь внимание министров и королей, показав им всю бдительность и незаменимость Нэрна и Мелфорта, коим удалось наладить важнейшие коммуникации с другим берегом Канала.
Нам не удастся уличить Нэрна и Мелфорта в фабрикации Камаретского письма. Мы не можем разоблачить их, как Тайный совет разоблачил Янга и его подельника Блекхеда, повинных в столь же искусном и расчётливом деянии. Мы не можем поставить их рядом со знаменитыми политическими фальсификаторами нашего времени с Эстергази в деле Дрейфуса, с Пигготом в Комиссии по делу Парнелла. Мы знаем лишь то, что они были способны на такой поступок. Люди, способные убить в интересах дела, не остановятся перед подделкой. Мелфорт располагал и возможностью, и необходимыми материалами; именно в те дни он был остро заинтересован в том, чтобы, добыв нечто сенсационное, упрочить собственное положение в глазах французских властей за счёт Мидлтона и упрочиться в окружении королевы. Преследуя эту цель, он, самое малое, приписал к докладу Саквиля одну фразу нечестного умысла то, что, по нашему разумению, никак не написал сам Саквиль.
Вот свидетельство и вот свидетель: единственный свидетель, на ком лежит ответственность за страшное обвинение, предъявленное Джону, герцогу Мальборо. Бродя между теней прошлого, бередя прах давно ушедших поколений, мы смогли раскопать лишь невязки и неправды; сопоставить и взвесить вероятности. И даже показав переплетение обманов в предъявленном обвинении, мы не можем полностью опровергнуть его. Но если история не осмеливается вынести официальный приговор Мелфорту, Нэрну, иным из группы якобитов-изгнанников и священников, составившим призрачный сен-жерменский двор; если история располагает только их свидетельствами - пусть правосудие справедливости воспретит истории говорить о вечном бесчестии первого английского солдата, главного созидателя британской имперской мощи.
Осталось рассказать о том, что выпало на долю брестской экспедиции. Король Вильгельм - пишет Далримпл:
...намеревался попытать удачи весной, но приватные распоряжения короля Иакова возымели ту силу, что к адмиралу Расселу вернулось отобранное годом ранее командование над флотом; и король Иаков передал через графиню Шрусбери приватные инструкции ему, герцогу Лидскому [Денби], лорду Шрусбери, Годольфину, Мальборо и другим, где дал распоряжение задерживать выход флота, чиня препятствия в снабжении,[335] так что командующий, лорд Беркли, смог выйти в море лишь в первую неделю июня.
Яростный выпад автора бьёт мимо Мальборо: он не занимал в то время никаких государственных должностей, и не имел власти влиять на время выхода флота. Далримпл, впрочем, клевещет на адмирала Рассела, чей патриотизм и прочная приверженность протестантскому престолонаследованию стали удостоверены у мыса Ла-Хог и станут через недолгое время подтверждены в Средиземном море, куда Рассел как раз и собрался идти с главным английским флотом, в погоню за Турвилем. Перед отходом, адмирал написал секретарю Адмиралтейства, Тренчарду, письмо, показывающее заботу Рассела о государственных интересах и плохо сочетающееся с клеветой об его предательском следовании приказам короля Иакова.
Теперь, перед выходом в море, позвольте предложить вам свои соображения. Не стану говорить о деле в Проливах: уверяю вас, что исполню там всё возможное - за мною дело не станет. Но что до кораблей, назначенных к Бресту с сухопутными силами, никто не может предсказать, какой им будет сопутствовать успех; есть, впрочем, опасение, что из-за поразительного промедления, затянувшегося сверх всяких ожиданий, враг не лишь встревожился, но получил время для оборонительных приготовлений. Тем самым, мы, скорее всего, не испытаем больших неудобств, если не станем обязывать генерала [Толлемаша] к слишком строгому следованию приказам: он сможет действовать, если найдёт на месте удачный случай, но почему бы ему не остаться при свободе попытать удачи в каком-то другом пункте, откуда поступят сведения, сулящие успех - если за то выскажется военный совет из главных офицеров, флотских и армейских? Или, если он встретит у Бреста настолько сильное сопротивление, что не сможет надеяться и на самый малый успех, почему бы ему не пойти к Порт-Луи, где, по моим сведениям, вполне можно уничтожить если не корабли, то склады и арсеналы?[336]
Предупреждение, поступившее от командующего флотом, привносит определённый смысл в общие выражения инструкций королевы для Толлемаша от 11 мая:
... И когда вы придёте в назначенную точку рандеву или соединитесь с Адмиралом Флота каким-то иным образом, вы проведёте совет с названным нашим Адмиралом о том, как наилучшим образом использовать наши силы на пользу нашего дела, к досаде Неприятеля; и вы приступите к совместному исполнению того плана, что станет согласован Вами и названным нашим Адмиралом, или, в отсутствие последнего, Вами и Командующим теми кораблями, что пошлёт к Вам названный наш Адмирал.[337]
В первой неделе июня Рассел со всем флотом ушёл в Средиземное море. По пути он оставил против Бреста эскадру Беркли с семью тысячами солдат на транспортах. 7 июня эскадра встала в заливе Камаре. Тяжёлый навесной огонь береговых батарей немедленно выявил прекрасное состояние обороны и полную готовность неприятеля. На военном совете лорд Катс, офицер с заслуженной репутацией храбреца, в дальнейшем знаменитый Саламандр Мальборо, настаивал на осторожности. Он вызвался высадиться на берег лично, с пятьюдесятью гренадёрами, и проверить силу огня. Но Толлемаш с неожиданной резкостью отмёл его предложение. Генерал видел опасность; но смерть - сказал он - это жребий; мы не можем отступить с бесчестьем.
Учитывая полученные Толлемашем приказы, он вёл себя нерезонно - и смело. Адмиралы не могли мыслить хладнокровно ввиду такого пылкого генерала. Соответственно, на следующее утро 8 июня, эскадра схватилась с фортами и батареями на близких дистанциях, а Толлемаш высадился с лодок на песчаный берег с пятнадцатью сотнями пехоты, в средоточие тяжёлого и неутихающего огня. Немедленно, ещё в сумятице высадки, на них пошла атака превосходящих сил французской пехоты, кавалерийский удар, и англичан загнали обратно, в лодки. Толлемаш получил рану в бедро. По странной ошибке, высадка пришлась на канун отлива. Немногие тяжёлые лодки смогли уйти в море. Большинство высадившихся погибли или попали в плен. Раненого генерала доставили на корабль, и эскадра, жестоко побитая в дуэли с фортами и батареями, отошла за пределы поражения. Потери оказались настолько велики - около двух тысяч человек - что все планы действий против других береговых пунктов были отменены, и экспедиция отправилась обратно, в Портсмут, куда и пришла 12 июня. Во время безрадостного возвращения прошли дальнейшие военные советы. На них присутствовал и Толлемаш; рана его чудовищно воспалилась и он, как то говорят, настаивал на том, что имел распоряжение атаковать один лишь Брест. Он умер через несколько дней от, судя по всему, заражения крови: возможно, генерал смог бы легко поправиться, когда бы его лечили современными нам методами военной хирургии. В последние часы храбрый офицер говорил вперемешку и с чувством о счастье умирать за отечество, одновременно упрекая соотечественников, в том, что они предали его.
Немедленно после боя, быстрый корабль доставил новость о конфузе в Англию; секретарь Адмиралтейства писал лорду Беркли из Уайтхола, 13 июня 1694.
Я доложил королеве срочное послание вашего лордства от 9-го, из залива Камаре, и королева приказала мне известить вас о том, что, отдавая приказ генерал-лейтенанту Толлемашу, она никак не сдерживала [не ограничивала] его действий каким-то определённым местом на побережье Франции, как то следует из прилагаемой копии приказа; то же говорится в моём письме к генерал-лейтенанту Толлемашу: я писал ему 29-го числа прошлого месяца под именем полковника Гибсона... Тем самым, её величество считает, что ваше лордство, и адмиралы, и генералы должны согласовать дальнейшие нападения на французское побережье и прислать решение военного совета для доклада её величеству, чего она и ожидает.[338]
То обстоятельство, что приказы атаковать Брест были отданы на усмотрение совета старших офицеров, и исполнение их зависело от того, что названные офицеры обнаружат на месте и то обстоятельство, что английское правительство знало об уверенных опасениях врага, находят подтверждение в личной переписке Вильгельма с герцогом Шрусбери, его главным государственным секретарём. Признаюсь вам - король пишет из Фландрии, 18/28 июня:
...что не ожидал от них попытки атаковать прежде тщательной разведки и уяснения того, как враг подготовился к встрече; поскольку они [неприятель] были превосходно осведомлены о грядущей атаке, деятельно готовили оборону; одно время дело выглядело исполнимым, но с тех пор минули два месяца.[339]
И 21 июня/1 июля:
Я переживаю потерю бедного Толлемаша, хотя не могу одобрить его поведения, и остаюсь при мнении, что чрезмерно пылкое желание отличиться ввергло его в загодя безнадёжное дело.
Шрусбери ответил на первое из писем 22 июня:
Я никогда не был настолько уверен в брестском плане, чтобы теперь чрезмерно удивляться провалу, в особенности зная, что враг получил более чем достаточно предупреждений, и подготовился к обороне. Но я всегда полагал, что мы не станем и пытаться, если, наблюдая непосредственно с кораблей, найдём в приготовлениях неприятеля - как то и случилось - неодолимое препятствие; но они имели достаточно полномочий, чтобы с усердием предпринять всё возможное на других участках побережья: там, где найдут задачу исполнимой.
Вслед за тем Шрусбери обращается к персоне Мальборо в словах одновременно благородных и откровенных.
Продолжая, не могу не упомянуть того, что теперь у всех на устах: возможно ли и удобно ли вашему величеству вернуть милорда Мальборо к своему расположению. Он со мной с тех пор, как пришли новости, и предлагает свою службу со всеми вообразимыми изъявлениями преданности и верности. Всё убедительное, что я могу сказать в пользу этого человека, имеет малое значение, так как я хорошо помню весенний разговор с вашим величеством - тогда вы были совершенно убеждены в его бесполезности; некоторые оставшиеся нюансы слишком деликатны для того, чтобы я дерзнул советовать,[340] здесь ваше величество единственный и лучший судья; но если упомянутое возможно разрешить к удовлетворению вашего величества, думаю, что он, во всяком случае, способен принести большую пользу. Он имеет неоспоримую выгоду в верности, и ничто не заставит меня в том усомниться.
Правда ли то, что Шрусбери, находясь в тесных, дружеских, доверительных отношениях с королём всё время предавал его, принимал приказы от Иакова, и, следуя этим приказам, постоянно отсрочивал выход флота, чтобы дать французам время завершить подготовку? Если так, его поведение безнравственно и отвратительно сверх всякой меры. Даже приписанное Мальборо предательство бледнеет перед деяниями доверенного министра, использующего власть для поражения того предприятия, куда он сам он послал соотечественников и друзей; человека, кто, принимая от Вильгельма многие почести и любезности, ласкал короля иудиными поцелуями. Но правда ли это? Якобитские записи уверяют нас, что это правда. Те, кто верит якобитским записям, должны почесть это за правду. Но те, кто видят в якобитских записях одну из исторических небывальщин, приглашаются для оценки иных, противоположных вероятностей.
Посмотрим на персону и положение Шрусбери. Он был знаменитейшим человеком. Он был исполнен всех добродетелей, оставаясь совершеннейшим придворным. Он не дожил до шестидесяти, но всегда очень заботился о своём здоровье. Во всех его делах видны достоинство и неспешность. Тем не менее, он был способен - мы видим это по его поведению в 1688 году - и на отважные решения. Его очень любили. Он получил прозвище Короля сердец. Он был безмерно богат. Он любил охоту на лис; он ненавидел государственную работу, и всегда порывался оставить офис. И государственная его служба всегда была бескорыстной. Ему нечего было ждать от якобитской реставрации. Он ненавидел католицизм всей ненавистью отступника. В конце жизни, все государственные дела, какие удавалось вынудить от него, всегда обращались против возвращения Стюартов. Именно в его руки умирающая королева Анна передала в 1714 году белый жезл, решив тем вопрос о престолонаследовании в пользу Ганноверского дома. Да, он беседовал с якобитскими агентами, обменивался приязненными письмами с королём Иаковом через свою мать и через лорда Мидлтона, и тем заключил собственный мир с Сен-Жерменом - и вот нас безапелляционно уверяют в том, что он был врагом народа, врагом своей страны, врагом собственных интересов; что он лично надувал короля Вильгельма. Мы уверены, что ничто из этого к нему не относится.
В сравнении со Шрусбери, только один человек испытывал слабейшие побуждения, имел меньшие причины для предательских игр с королём Вильгельмом, для разглашения военных тайн правительства. Это Денби. Он был премьер-министром. Король пожаловал его маркизом Кармартенским, и, через краткое время, сделал герцогом Лидским. Подобно Шрусбери, ему нечего было ждать от измены. Он не мог рассчитывать на то, что получит от короля Иакова хоть что-то, сверх полученного уже от короля Вильгельма. Он всю жизнь оставался заклятым врагом Франции. Он играл ведущую роль в бракосочетании и революции, приведших Вильгельма к трону. И как бы мы ни судили, исходя из личных его интересов либо из его политических убеждений, невероятно, чтобы он был неверен возглавленному им самим правительству. Но успех или провал брестской экспедиции волновал его не лишь как министра, но как отца. Старший сын Денби, ставший маркизом Кармартенским после того, как отец был пожалован герцогом прикрывал высадку десанта, не уступая в храбрости, мужественно сражаясь за отечество, преданное его отцом - так пишет Далримпл. Нам предлагают поверить в то, что премьер-министр во всё время действовал, подчиняясь приказам Иакова; что он несёт ответственность за выдачу французам брестской экспедиции; что он, активным злоумышлением, задержал выход английского флота, чтобы французы успели наилучшим образом подготовиться к встрече. И всё это, вопреки всем естественным причинам и резонам, мы обязаны принять - оттого, что на свете существуют два якобитских документа, предполагаемо испущенных Иаковом II; первый документ от 16 октября 1693 озаглавлен: Инструкции от графини Шрусбери для графа Шрусбери и лордов Черчилля и Рассела; второй, от того же числа, имеет заголовок Инструкции графу Денби и лордам Годольфину и Черчиллю от графини Шрусбери, где после всяких общих фраз опальный монарх воображает, что способен писать от лица дамы-интриганки.
В этой связи, его величество ожидает от графа Денби той службы, что тот сумеет сослужить, в особенности своевременных указаний на то, как следует действовать против принца Оранского, и самых спешных сообщений о замыслах названного принца вместе с мнениями о том, как можно им препятствовать...
Графам Шрусбери, Денби, Годольфину, Расселу, прочим, надлежит, со всем должным благоразумием, препятствовать или медлить в перечислении денег, и задерживать выход флота иными представившимися способами.
Ничто, разумеется, не мешало сбитому с толку, тешащемуся самообманами, обманутому фальсификациями Иакову сотрясать воздух пустыми приказами; ничто не мешало адептам якобитизма хранить эти приказы как доказательство авторитета, каким, на деле, никогда не пользовался изгнанник; хранить, их как средство для очернения тех англичан, кого они небеспричинно ненавидели. Но что удивительно: весь этот мусор стал пищей - за неимением лучшего корма - долгой череды историков; и, в неизменном виде передаётся из поколения в поколение.
Но нам надо упомянуть ещё один документ, ставящий под сомнение Денби наряду с остальными. Это третий из манускриптов Нэрна, Меморандум Ландена. Документ без даты, без подписи, написанный неустановленной рукой был, очевидно, изготовлен для французского правительства. Он начинается с перечисления главных сторонников Иакова в Англии того времени.
Граф Денби, первый министр принца Оранского; лорд Годольфин, лорд Казначейства и член тайного совета; граф Шрусбери, ставший недавно первым государственным секретарём; Рассел, член Кабинета, недавно ставший адмиралом; Черчилль, первый генерал-лейтенант; сын герцога Бофора и сын герцога Болтона. Пока эти люди верили, что принц Оранский сможет утвердиться в Англии, все они верно служили ему, и презрительно отвергали всякую корреспонденцию с королём.
Маколей невзлюбил этот документ, в особенности - что не вызывает сомнений - за последнее предложение процитированного выше отрывка. Более того, он тщится очистить Денби от всяких связей с Иаковом. Тем самым, ему не годится мемуар Ландена. Он отметает его с царственным пренебрежением:
Письмо это недостойно никакого внимания. Автор, судя по всему, принадлежал числу глупых и горячих якобитских голов, и ничего не знал ни о положении, ни о характере ни одного из упомянутых государственных деятелей... Всё это сочинение несомненное переплетение бессмыслиц.[341]
Нам нет нужды спорить с такой оценкой. Но зачем ограничиваться в столь презрительном недоверии каким-то одним документом среди всех бумаг Нэрна? Ни один из прочих не опирается на лучшие свидетельства. Все одинаково содержатся в коллекции рукописей Карта. Все одинаково перепечатаны Макферсоном. И критика, обращённая Маколеем на этот один документ равно приложима и к остальным. И если они убедительны в том, что касается Мальборо, они столь же верно говорят против Денби и других. Предубеждение, предвзятость, определённо направленная злоба - ничто иное не служит здесь критерием выбора и отбора. Здравый смысл отвергает все эти бумаги все, равным образом.
Подводя итог, мы утверждаем впредь, что: (1) в том, что касается периода после 1660 года, Жизнь Иакова II не содержит ни единой собственноручной буквы Иакова, он никогда ничего туда не вписывал и не видел самого этого текста, его написал Диконсон после смерти Иакова; (2) все, без исключения бумаги Нэрна - поддельные или лживые документы, сфабрикованные из секретных донесений разведки в Сен-Жермен, из слухов, подслушанных агентами Сен-Жермена в Англии, из бесед агентов с ведущими английскими деятелями в интерпретациях тех же агентов; (3) агенты - следуя собственным интересам и, вероятно, полученным инструкциям - старались включить в свои доклады побольше знаменитых имён; а Сен-Жерменский двор, опять же, следуя своим интересам, подправлял большую часть указанных докладов, добиваясь наилучшего влияния на французское правительство; (4) в Сен-Жермен никогда не поступало ни одного письма, собственноручно написанного или подписанного опороченными государственными деятелями; (5) нет никакой возможности проверить ни то, насколько правдивы или точны сами доклады якобитских агентов, ни то, как их использовали в Сен-Жермене; (6) Камаретское письмо, единственный из этих документов претендующий быть копией письма, такая же подделка, как и прочие бумаги Нэрна, что косвенно, пусть и с большой вероятностью, следует из обстоятельств его написания и из внутренних особенностей текста; (7) ничто, кроме голословных утверждений, не указывает на то, что Мальборо, когда-либо, действием или намерением, предал дело, ради которого покинул короля Иакова в Солсбери, а подготовка или помощь якобитской реставрации никогда не вязались ни с выгодами, ни с желаниями Мальборо, наоборот - подобное шло вразрез всем его интересам.
Затем, мы утверждаем, что: (8) министры короля Вильгельма входили в компрометирующие и нерегулярные сношения с изгнанным королём, но, несмотря на это, не выдали умышленно ни одного военного или военно-морского секрета; (9) якобиты и французы не получили никакой выгоды от какого-либо незаконного или преступного действия английских министров, адмиралов или генералов; и (10) наоборот, всё ими предпринятое предпринималось с верностью, преданностью, честно и искусно, в соответствии с примитивными методами тех дней, к вящим успехам британского оружия.
Мы дошли до крутого поворота нашей истории. В конце 1694 года королеву поразила оспа. Анна написала сестринское письмо, испрашивая разрешения на уход за больной. Леди Дерби, тогда фрейлина Марии, вернула вежливый ответ в настоящее время визит нежелателен по понятной причине: состояние королевы таково, что она нуждается в полном покое. Затем шёл постскриптум: Надеюсь, мадам не откажет уведомить принцессу о том, что мои скромные услуги всегда в её распоряжении. Пытливая Сара прочла это так: болезнь королевы смертельна и через несколько дней узнала, что не ошиблась. 28 декабря королева Мария скончалась, к скорби любящих подданных и при огорчительном безразличии супруга.
Непредвиденное событие совершенно переменило перспективы и взаимные отношения всех персон, вовлечённых в это повествование. До сих пор все резонно ожидали, что Мария надолго переживёт мужа, человека пылкого, хрупкого, осаждённого многими опасностями болезней, войн, заговоров. И когда случится неизбежное, английская протестантская королева станет править в полной мере своего права. Теперь же трон, благодаря уступке прав со стороны Анны, достался одному Вильгельму до конца его дней. После Вильгельма корона переходила к Анне. В любой день любого месяца и, определённо, через недолгий срок, опальная принцесса часовые не салютовали ей по высочайшему приказу, и мэр Бата, по королевскому распоряжению, не пришёл сопровождать её в церковь принцесса, непритязательно обитавшая с семьёй и друзьями в скромных покоях Беркли Хауса, должна была принять корону трёх королевств. И около Анны стояла несгибаемая пара, двое, с которыми нельзя было не считаться: люди, влиятельные и в тягчайшие времена для фортуны Мальборо; семья, накрепко связанная с принцессой и крепкая эта связь не поддалась никаким усилиям двойного царствования. Неудивительно, что прежде пустынный Беркли Хаус заполонили люди всякого звания, чтобы, вопреки ироническим смешкам Сары выказать почтение принцу и принцессе.
Король достаточно чувствовал настроения, чтобы понять дальнейшую невыгоду открытой распри с принцессой иначе, ему стали бы предъявлять каждодневное пренебрежение и демонстративно третировать, отказывая в достоинстве суверена; Вильгельм не мог рассчитывать на то, что знать Англии теперь, когда королева мертва удержится от оказания почестей принцессе, ближайшей наследнице престола по акту парламента; принцессе, кто если бы действие кровного родства сохранило силу стала бы царствовать до него самого; Вильгельм прекрасно понимал, что вельможи, демонстрируя безразличие в его сторону, станут вести себя при её дворе ровно противоположным образом.[342]
Но именно с этого времени Мальборо перестаёт оппонировать королю. После того как королева испустила последний вздох интересы Мальборо пошли в русле королевских действий и намерений. Граф приветствовал решительную войну Вильгельма с Францией. Он разделял цели и методы королевской внешней политики. Он, спокойно и с удовлетворением ждал дня радости, о котором писала Анна. Сандерленд с Сомерсом оказали посредничество, Анна официально помирилась с Вильгельмом и король - когда Анна явилась ко двору в Кенсингтоне - принял принцессу с должными церемониями, и отвёл к её услугам специально обустроенный Сент-Джеймский дворец. Туда, за принцессой, переехала и Сара. Но рубцы, оставленные ссорой, продолжали гноиться. Отношения между сувереном и ближайшей престолонаследницей пришли к корректности, но остались холодными, а Мальборо на четыре года задержался не при делах, не получив никакого назначения ни военного, ни гражданского; ни домашнего, ни заграничного. Но это никак не сказалось на его образе действий. Вильгельм третировал графа с прежней и даже личной враждебностью, но Мальборо, единожды став стойким сторонником короля, таким и остался, используя всю свою обходительность для пресечения любого соперничества, тем более открытого разрыва Сент-Джеймса с Уайтхолом. Он, как и прежде, время от времени, принимал якобитских агентов, и не порывал связи с Иаковом. Это не представляло для него труда, тем более что недавнее тюремное заключение и стойкая нелюбовь Вильгельма снабдили его весомой для сен-жерменцев рекомендацией.
Европа полагала, что смерть королевы Марии серьёзно подорвёт положение Вильгельма; домашние и французские якобиты ожидали его скорого падения. На деле, с кончиной королевы кончился и раздор в королевской семье, так что смерть Марии послужила к упрочению монархии. Главные советники и министры Вильгельма издавна дружили с Мальборо, и были связаны с нашим героем многими видимыми и тайными нитями. Смерть королевы привела лишь к консолидации и лучшему согласию в этой сильной, могущественной группе. Кажется, обстановка разрядилась, но впереди ждала новая беда.
Кампания 1695 года принесла Вильгельму единственный успех в европейской войне. Он осадил и отобрал Намюр, вырвав город из зубов французских армий Люксембург умер, и Людовик не нашёл лучшего, нежели поставить командующим некоторого маршала Вильруа: в будущем, на долю маршала выпадут и худшие превратности.
Некоторые из друзей и наставников Анны посоветовали ей использовать счастливое военное событие для установления лучших отношений с королём: в итоге, принцессу уговорили написать победителю уважительное, но сердечное поздравление. Сара была против, ожидая, что письмо станет пренебрежительно отвергнуто. Предчувствие не обмануло её. Ответа не было две недели, и Мальборо написал Бентинку:
17 сентября 1695.
Я беспокою вашу милость в связи с полученным нами известием о потере пакетбота, шедшего из Гарвича с корреспонденцией от 3-го числа настоящего месяца: тем же числом принцесса отправила письмо, поздравляя его величество с отменным успехом у Намюра; теперь, волнуясь о том, что письмо могло пропасть вместе с пакетботом, а значит, до короля могли не дойти свидетельства её внимания и удовольствия после такового славного и благоприятного для его величества дела, принцесса приказала мне отослать вашему лордству копию упомянутого письма от 3-го числа, желая, чтобы вы благосклонно передали копию королю, на случай, если оригинал стал потерян; но если король получил уже это письмо, принцесса заранее приносит его величеству извинения за беспокойство.[343]
Было или не было это послание замаскированным сарказмом - король, насколько нам известно, не подал виду, и не дал ответа.
1695 год стал отмечен якобитской активностью. Деятельность партии Иакова распространилась по всей стране. Сторонники изгнанника важно обменивались особыми приветствиями, встречаясь в политических клубах, светских собраниях, в усадьбах и поместьях, тавернах, на лоне природы. Они не ожидали, что Вильгельм удержится теперь, без своей английской королевы. И под всей этой пеной, под поверхностью, в сотнях центров, шла подготовка к вооружённому мятежу когда и если пробьёт час; а ещё ниже, в глухом подполье, у корней якобитизма - как это часто бывает в движениях подобной направленности нагнаивался цареубийственный умысел. Король Иаков знал о планах и первого и второго рода, хотя мы не можем сказать, что он лично либо целенаправленно отряжал убийц к Вильгельму. Осенью он послал в Англию Бервика, поручив тому координировать планы мятежников. Молодой и отважный человек пробыл в стране несколько месяцев, скрываясь в Лондоне и разъезжая по Англии в замаскированном виде. Он встретился со всеми важными якобитами, постарался согласовать их планы и договориться о начале выступления.
Те, кто верит обвинениям Диконсона и Нэрна, перенятым и расцвеченным тщаниями Далримпла и Макферсона, должны найти странность в том, что Бервик не встретился ни с одним из ведущих политиков из тех, кто, как нас уверяют, поддерживали прочные и преступные связи с Иаковом. И прежде всего, они должны найти особую странность в том, что Бервик никак не связался с Мальборо, своим дядей, человеком без офиса, персоной, неприятной королю. Всякий предположит, что Бервик в первую очередь обязан был встретиться именно с тем генералом, кто всего год назад выдал секрет брестской экспедиции в Камаретском письме, дав тем такое убедительное, такое обязывающее доказательство возобновлённой преданности Иакову. И если бы Бервик увиделся тогда с Мальборо, об этом, определённо, не молчали бы его мемуары он написал их, когда подробности его английской миссии остались интересны лишь истории. Но, кажется, он и не помышлял о такой встрече. Вместе с тем, отец Бервика (то есть король) определённо не послал бы сына в смертельно опасную поездку, не рассказав в подробностях обо всех своих английских сторонниках. Правда, вернее всего, кроется в том, что Иаков, в глубине души, не очень верил в дружеские уверения, доходившие до него от вождей революции. Он пользовался этими изъявлениями, чтобы произвести впечатление на Людовика и уверить последнего в силе и благоприятных перспективах якобитского движения, но когда речь зашла о любимом сыне, Иаков повёл себя иначе: ни он, ни сам Бервик не пошли на смертельный риск.
Бервик нашёл, что конспираторы никак не располагают нужными средствами. На поле по первому сигналу могли выйти примерно две тысячи хорошо экипированных и даже сведённых в отряды кавалеристов; в заговор вошли некоторые отлично известные люди. Но дальше дело заходило в тупик. Английские якобиты единодушно отказывались выступить прежде начала высадки на остров регулярных войск. Людовик XIV мог, желал, готов был предоставить экспедиционный корпус, но при одном непременном условии. После урока 1692 года, он твёрдо решил не отправлять экспедиции до начала якобитского восстания в Англии. Так по одну сторону канала скрывались потенциальные инсургенты, по другую простаивала армия вторжения, и каждый ждал каждого.
Тем временем, независимо от Бервика, Иаков послал в Англию сэра Джорджа Баркли, дав последнему собственноручные инструкции, составленные в исчерпывающих терминах. Король-изгнанник уполномочил посланца действовать против Вильгельма любыми, но верными и исполнимыми, по усмотрению Баркли, способами. Одновременно, разными путями, на остров проникли около двадцати решительных людей из сен-жерменской охраны Иакова; через несколько времени, следуя тайным сигналам, они встретились с Баркли в Лондоне. Так начался цареубийственный заговор опаснейший, самый решительный со времён Гая Фокса. По субботам Вильгельм ездил охотиться, и умышленники задумали напасть на короля в охотничий день, когда тот будет возвращаться с поля, и, перебив охрану, убить монарха. Для засады выбрали место под названием Тернхем Грин: король, на пути домой, пересекал там реку на лодке, а потом пересаживался в ожидавшую карету с новым эскортом. Для отчаянного предприятия нужны были сорок человек. Двадцать прибыли из Сен-Жермена. Ещё двадцать предстояло набрать в Англии. Баркли и его товарищи занялись этой деликатной работой.
Тем временем, Бервик завершил опасную миссию и смог рапортовать об одних только неодолимых препятствиях на пути восстания либо вторжения. Теперь он знал и о замысле цареубийства, и доложил о том в примечательных словах.
Помимо прочего, во время пребывания в Лондоне, я получил сведения о заговоре, готовящемся против самой персоны принца Оранского, но, полагая, что главная моя задача исполнена, решил, что могу, не смущаясь и не медля из-за этого, готовиться к возвращению во Францию.[344]
Такие слова человека, прожившего, по европейскому мнению, образцовую жизнь честного солдата, показывают нам хладнокровную жестокость того времени. Бервик отказался от участия в заговоре на жизнь Вильгельма, и, вместе с тем, не стал чинить препятствий цареубийцам заговорщикам. Он считал их дело безнадёжным; но это было их дело. Соответственно, в конце года, он вернулся тайным путём во Францию. Там он увидел порты, наводнённые солдатами - войска стояли в полной готовности к выходу, ожидая сигнала о начале якобитского восстания. По дороге в Париж он встретил отца: тот спешил к побережью. Бервик вернулся с Иаковом в Кале, и они, на долгие недели, остались там, ожидая, когда на другом берегу подадут знак световыми вспышками. Заговорщики назначили нападение на субботу, 15 февраля 1696 года; к этому дню сорок найденных и отобранных, решительных, конных, вооружённых до зубов людей должны были собраться на сходнях у Тернхем Грин. Заговор Рай-Хауса не пошёл дальше вигских разговоров в трактире; но якобитским головорезам едва не удалась прекрасно организованная акция. Они позаботились обо всём, даже о сигнале с дуврских скал об огне, что должен был оповестить тревожащихся в Кале товарищей. Но двое из сорока один устрашившись, второй не выдержав терзаний остатка совести обратились и растревожили Бентинка, и когда подошла роковая суббота, Вильгельма с большими трудностями и в самый последний момент уговорили пропустить охоту.
Правительство, получив в руки концы некоторых нитей, быстро распутало всю паутину. Многие заговорщики были схвачены, поднялась тревога, и заговор вышел на свет божий - во всех жутких подробностях, во всей опасности. Нация взъярилась. Все классы собрались вокруг короля. Парламент приостановил действие Хабеас Корпус Акта; подавляющее большинство депутатов объединились для защиты трона и воздаяния цареубийцам. Палаты, срочным решением, отменили автоматический роспуск парламента в случае перехода короны по какой бы то ни было причине; что касается самого порядка престолонаследования, его отныне и в точности определяли статьи Билля о Правах. Партия Иакова надеялась на переполох после смерти короля Вильгельма. Парламент эффективно предупредил подобное развитие событий. Конспираторов осудили скорые суды, наказания не стали слишком многочисленными. Вильгельм снискал всеобщее признание, сравнимое разве что с энтузиазмом первых дней его царствования.
Но если бы заговор и удался, Иаков никак не сумел бы вернуть потерянную корону, перешагнув тело убитого Вильгельма. Главные министры тесно сотрудничали с Мальборо, расчёты долговременной предусмотрительности побуждали их связывать своё будущее с Анной. За кровавым преступлением не последовали бы ни паника, ни беспорядки. В тот же день на трон бы взошла Анна, вознесённая волной народной ярости, а Мальборо возглавил бы армию. Ни одно ружьё бы не выстрелило. Ни одна собака не тявкнула. А новая конструкция правительства стала бы прочнее прежней комбинации. И мы не сомневаемся в том, что спустя несколько месяцев Мальборо снова стал бы слать в Сен-Жермен успокоительные сообщения, объясняя, что не мог действовать по-другому не тот был настрой у нации; что он по-прежнему любит его величество, но прошлый, неискупленный, неизменно памятный долг, обязал его уберечь священную королевскую персону от непременной гибели на английской земле; но однажды и возможно наступят иные обстоятельства, придёт день, когда он сможет непререкаемо доказать свою неколебимую преданность королевскому делу. Не исключено, что он добавил бы несколько слов предостережения, указав, как опасно якобитам активничать теперь в Англии теперь, когда общественная атмосфера столь неблагоприятна, когда правительство собралось у престола любимой дочери Иакова, когда за королеву крепко стоит сам он, неизменно верный - в сердце своём - слуга Иакова. И очень возможно, что Иаков передал бы эти слова Людовику доказывая тем, что надежда всё ещё есть; а историки цитировали бы эти слова, доказывая и показывая нам, как Мальборо предавал Анну. Это всего лишь умозрительное построение, но оно основано на реальном положении дел.
Покушение на цареубийство откликнулось парламентской драмой высокого накала. Сэра Джона Фенвика не было среди лиходеев, но он активно занимался подготовкой вооружённого мятежа. И после нескольких предписаний на арест, его, по стечению обстоятельств, схватили. Сам Фенвик был хорошего рода, а жена его леди Мери, дочь графа Карлайля состояла в родстве и свойстве со многими знатными фамилиями. Чтобы спастись от скорого обвинения, выиграть время и пустить в ход влияние друзей, Фенвик написал признание, обвинив Мальборо, Рассела, Годольфина и Шрусбери в преступной переписке с Сен-Жерменом. Он обвинил Мальборо в том, что тот обратился к Иакову через Флойда, умоляя о прощении. И его лордство Мальборо писал Фенвик получил ответ, что он совершил величайшие преступления, находясь при величайших обязанностях, но может надеяться на прощение, если окажет королю экстраординарные услуги; и вскоре он сослужил королю значительную службу, о чём мы узнали из сообщений некоторого человека, посланного королём Иаковом специально по этому случаю.[345] Доносчик голословно утверждал, что Мальборо как ожидал Иаков должен был поднять английскую армию к услугам опального претендента. Фенвик не выдал никого из известных ему истинных якобитов: тех, кто на деле готовились взять оружие и сесть на коня по сигналу к восстанию. Он выбрал одних псевдоякобитов[346]: тех, кто служили некогда или служили теперь на важнейших должностях при короле Вильгельме, кто развлекали короля в изгнании пустыми обещаниями и фальшивым пиететом. В те дни Вильгельм был в Голландии. Он получил признание Фенвика; дальнейшее поведение Вильгельма вполне разъясняет нам политику его царствования. Король немедленно разобрался в манёвре Фенвика. Он не узнал из доноса ничего нового там было лишь то, о чём монарх знал долгие годы - деяния, о которых он судил не по названию, а по практическому значению. Он вовсе не желал рушить систему своего правления и обезглавливать две великие партии, выводя из равновесия правительственный механизм. Он отослал бумагу в Англию, своим советникам с уверениями, что все обвинённые там персоны пользуются его доверием и что доверие это никак не поколеблено чепухой фенвикова доноса. Ответ короля решил дело на недолгое время.
Но затем о признании узнал парламент, и положение серьёзно отягчилось. Никто не удивлялся интрижкам тори с якобитами. Это было в крови тори. Теперь Фенвик пятнал чистые ризы вигов. Общины решили проверить, много ли правды в доносе. Фенвик, вызванный к парламентскому барьеру, отказался дать подробности или привести доказательства того, в чём успел признаться письменно. Один коммонер, полковник Годфри, муж Арабеллы по желанию Мальборо, в чём мы уверены специально и громогласно потребовал от ответчика доподлинного объяснения: в чём тот обвиняет Мальборо? Но Фенвик уклонился. Встав, по запросу парламента, перед королём, он упорствовал, отказываясь говорить. Мы, вместе с историками, должны предположить, что он не имел доказательств, и как полагают те же историки, только повторял тайные беседы в узких якобитских кругах. Его возвратили в тюрьму. Теперь Фенвик навлёк на себя тяжкую участь. Прежде он мог сохранить жизнь, как человек, не замешанный в целенаправленном умысле на цареубийство. Теперь он разгневал обе великие партии, в особенности вигов, замарав двух их знаменитых вождей без доказательств и оснований. Он, равным образом, сделался врагом могущественных людей врагом тех, кого успел обвинить и врагом тех, кого мог обвинить в будущем. Он разгневал короля, пытаясь как это ясно видел монарх внести разлад в правительство. Тем временем одного из двух свидетелей по делу самого Фенвика а для обвинения в государственной измене нужны двое подкупили или запугали и тот уехал из страны: теперь закон был бессилен против Фенвика. И общинам не оставалось ничего, кроме крайнего, резервного государственного средства: парламентского осуждения за государственную измену.[347]
Две палаты обсуждали Билль об измене два месяца. Нам нет нужды пересказывать ход многих и яростных дебатов, приводить результаты голосований при очень неустойчивом большинстве, вдаваться в анализ меняющейся парламентской обстановки. Всё это уже описано, исчерпывающе и многократно. Нас не интересует судьба Джона Фенвика, но лишь значение его обвинений для Мальборо и государственных деятелей, страдавших вместе с нашим героем. Никто из последних никоим образом не был замешан в цареубийстве или в подготовке вооружённого мятежа. Все они так или иначе беседовали или как-то сообщались с якобитскими агентами и, несомненно, по меткому слову короля Вильгельма заключили сепаратный мир с Сен-Жерменом. Расследование обернулось для них долгим и очень суровым испытанием. Положение, когда общественное мнение возбуждено, когда широко распространились подозрения, и человек при этом должен отбиваться от обвинений в ужасном преступлении, может расшатать чьи угодно нервы и опрокинуть самый стойкий дух: тем более, если этот человек на деле виновен в проступке менее тяжком но такого же рода что компрометирует и факты оправдания и, тем более, саму оправдывающуюся личность.
Каждый из обвиняемых пишет Маколей
вёл себя на свой, особый манер. Мальборо, самый преступный среди всех, сохранял твёрдость, спокойствие, величие и даже некоторое высокомерие. Рассел, на котором лежала вина поменее мальборовой, вспыхивал приступами неистового гнева, и помышлял лишь о мести подлому доносчику. Годольфин, смущённый, но осторожный, сдержанный, вполне владел собой и приготовился выдержать дело в стойкой обороне. Но Шрусбери, едва ли вообще виновный из всей четвёрки, был совершенно подавлен.[348]
Верно то, что напряжение сломило Шрусбери. 8 сентября 1696 года, он написал королю: его письмо и королевский ответ весьма поучительны:
... После того, как ваше величество милостиво дозволили мне исполнять должность, прошло больше года, прежде, чем я увиделся с милордом Мидлтоном: тогда он приехал и на недолгое время остановился в столице, потом возвратился в деревню; но вернулся незадолго до дела при Ла-Хоге, и при поднявшейся тогда тревоге попал в Тауэр, с правом принимать посетителей, и я навещал его так часто, как того требовали приличия, учитывая нашу тесную связь. [Они были свойственниками]. После освобождения, одним вечером за ужином, он изрядно напился, сказал мне, что собирается уехать за море, и спросил, не прикажу ли я ему исполнить какой-нибудь службы? Я, следуя взятому им курсу, ответил, что у него никогда не было способностей, чтобы услуживать друзьям, да и себе самому; и если времена, каких он ждёт, однажды наступят, я буду считать себя преступником без прощения, и он никогда не услышит от меня подобной просьбы. В его тогдашнем положении, он видимо обомлел, услышав такой ответ и уехал через несколько месяцев, никак, за всё это время, не поговорив со мной ни об отъезде, ни о чём-либо ином, лишь сообщил через мою тётушку [жену Мидлтона] что предпочитает не говорить со мной, но что я всегда и в любом случае могу рассчитывать на его посредничество, и что он ждёт того же от меня здесь и делает меня доверенным лицом нескольких доходных дел, оставленных им в Англии. Я лишь поклонился в ответ, и сказал, что я всегда к услугам её, его, их детей.
Теперь ваше величество знает всё о моей вине, и, если я не льщу себе, вина эта не настолько значительна, чтобы король отказал мне в прощении, и я уверился в том теперь, когда увидел с какими основательностью, справедливостью и великодушием ваше величество отнеслись к показаниям этого человека. У меня мало сомнений в том, что вы осуждаете его злоумышление. Но то, что понимаете вы, нельзя с такой же легкостью объяснить прочему свету! Когда столь основательно выстроенная ложь откроется публике, они, возможно, сочтут меня недостойным для вашей службы; но если до сего времени я не имел к службе ни интереса, ни наклонностей, теперь, когда при всём обороте этого дела ваше величество выказывает ко мне такие великодушие и искренность, я обязан вам навечно и со всей возможной признательностью.
В признании Шрусбери недостаёт многих и многих фактов. Вильгельм знал куда больше из повседневных якобитских толков. Но он постарался успокоить своего министра. Посылая вам бумаги сэра Джона Фенвика писал он:
я уверяю вас, что и раньше не верил его обвинениям, а теперь, после вашего ответа, полностью убедился в их ложности, и совершенно удовлетворён откровенным разъяснением о ваших делах с лордом Мидлтоном ничто из вами сказанного не может быть расценено как преступление. Можете быть совершенно уверены в том, что по ходу этого дела я не составил никакого неблагоприятного о вас впечатления; наоборот: в будущем, при наличии возможности, оно лишь упрочит моё к вам доверие, а дружеские мои к вам чувства и без того безграничны.[349]
Но Шрусбери не утешился. Он похоронил себя в деревне. Он заявил, что оказавшись жертвой такого преследования уже не годен для общественной деятельности. Определённо, здоровье его совершенно расстроилось. Он постоянно, хотя и безрезультатно, просил у Вильгельма отставки. Между тем он, кажется, доверил защиту своих интересов Мальборо как следует из одного письма от Мальборо к Шрусбери и мы располагаем этим редким документом - до нас дошло совсем немного писем Мальборо того периода.
2 декабря 1696 года,
Среда, ночь
Хотя я и не тревожил ваше сиятельство письмами, я не оставил усердия и постоянно занимался вашим делом. Знайте, что, две или около того недели назад, я писал вам, чтобы познакомить с тем, что выяснил, пока готовился к выступлению - мистер Арден обещал предоставить мне слово - и написал вам о наблюдениях за поведением некоторых людей, но не решился отправить письмо почтой и сжёг его. Вчера мы слушали сэра Дж. Фенвика в Палате, дело идёт наилучшим образом. Не стану расписывать подробностей, зная, что вы услышите всё в точности от других, но, пользуясь случаем, не могу не отметить: лорд Рочестер, как бы то ни было, ведёт себя, как друг; мы имели возможность поговорить и он уверил меня, что готов послужить вам делом; думаю, будет совсем неплохо если вы примете его настроение к сведению[350]
Уортон писал тому же Шрусбери о том, что произошло, когда Фенвик встал перед Лордами:
когда зачитали документ, первым встал мой лорд Мальборо и так высказался об обвинении: он не удивляется, наблюдая, как человек, оказавшийся в опасности, желает переложить вину на других; и находит удовлетворение в том, что оказался в отличной компании; но заверяет их лордств, что с тех пор как составилось теперешнее правительство, он ни о чём не разговаривал с этим человеком, даёт в том слово и клянётся честью. Затем мой лорд Годольфин сказал, что нашёл своё имя в двух местах: первое, его считают неуклонным защитником интересов короля Иакова; затем, как это особо подчёркивается, он якобы входил с последним в переговоры. В рассуждении первого пункта, он признаёт, что был среди тех, кто служили королю Иакову до конца; и может предположить, что именно из-за этого обстоятельства Иаков и его друзья вообразили, что он до сих пор стоит за их интересы; но если говорить о втором утверждении, там нет ни единого слова правды.[351]
По ходу процесса возникло дополнительное осложнение. Мордаунт, он же 3-й граф Питерборо и 1-й граф Монмут мы упоминали его и под вторым, и под первым титулом - был псевдоякобитом, но вместе с тем и человеком инстинктивного непослушания, с побуждениями расстроить правительственную деятельность; он, действуя через жену Фенвика, тайно снёсся с заключённым, и постарался убедить его, что тот спасётся, если уточнит, и разовьёт обвинения, в особенности обвинения против Мальборо. Фенвик, в естественном волнении, принялся обдумывать это предложение. Вместе с ним в Тауэре томился Эйлсбери нисколько не серьёзный заговорщик, но общепризнанный якобит, нечаянно и несколько раз замеченный в опасных компаниях. Фенвик стал убеждать Эйлсбери помочь ему с дополнительными свидетельствами.[352] Скорее всего, Эйлсбери не хуже Фенвика знал, о чём некоторое время назад шептались в верхушке английских якобитов. И если бы он решился выйти к барьеру вместе с Фенвиком, добавив собственные, сходные показания к его обвинениям, дело Мальборо и опороченных министров могло принять скверный оборот, учитывая настроение палат и, паче, публики. Но Эйлсбери, как нам случилось отметить, был друг Мальборо. Они сошлись при дворе ещё во времена Карла II. Итак, Эйлсбери попросил совета у Мальборо, найдя для этого способы - и получил напутствие: не входить ни в какие дела с Фенвиком, и спокойно оставаться в тюрьме: освобождение близко, дела идут на лад.[353] Эйлсбери хватило соображения, чтобы прислушаться; он даже решил, что оказывает Мальборо большую личную услугу и надолго остался при этом убеждении. Фенвик не нашёл поддержки у Эйлсбери и отказал Монмуту. Последний разгневался и обрушился на Фенвика с гневными упрёками. Тогда, в свою очередь, оскорблённая Мери Фенвик поведала Лордам о поведении Монмута. Открывшееся бесчестное подстрекательство стало встречено общим возмущением. Монмута лишили всех постов, и послали в Тауэр: он вышел оттуда лишь после смиренных покаяний. Но мы ещё услышим о нём.
Билль об опале неотвратимо, слушанье за слушаньем, шёл через парламент. Мальборо совершенно устоял под давлением, оцепенившим Годольфина и раздавившим Шрусбери; он держался с достоинством, и действовал энергично, как человек, не знающий за собой никакой вины. Он активно продвигал билль, и вотировал за него при всех важных голосованиях.[354] Он, хладнокровно и непреклонно, употребил всё своё влияние против Фенвика - истово желая обвинительного приговора, как говорила публика. Брат Мальборо, Джордж Черчилль, кто с честью командовал кораблём при Ла-Хоге, и кто заседал в Общинах, выражался без экивоков. Чтоб его! воскликнул он в кулуарах с жестокой искренностью Пулю ему в глотку! Мёртвые не болтают.[355] На деле, Фенвик мог болтать как угодно это не имело значения. Он выстроил свои обвинения на одних только слухах; у него не было никаких доказательств.
Сен-жерменский двор и весь якобитский мир взирали на крёстный путь Фенвика в напряжённом переживании. Они видели в нём мученика якобитского дела. Почему тогда, в таком деле они не нашли способов помочь ему? Отчего на помощь этому верному, героическому, насмерть затравливаемому человеку не пришёл тот самый солсберийский дезертир - тот, кто восемнадцать месяцев назад выдал - нас уверяют, что якобиты знали это - секрет брестской экспедиции? Где же Камаретское письмо? Самое время пустить его в ход. Не стоит даже и оглашать. Вполне достаточно пригрозить негласным образом, уведомив Мальборо, что если он не прекратит преследования Фенвика, письмо будет передано Вильгельму. И мы - припомнив о страстях, кипевших вокруг кровопролитий по политическим мотивам - сочтём невероятным поведение Иакова, Мелфорта и Нэрна: почему они не использовали письма против Мальборо, если имели его в руках? Почему сам Мальборо, зная о такой угрозе, упорствовал против Фенвика? Нас уверяют, что письмо, хранимое в Сен-Жермене, таило неимоверную силу; что через двадцать лет один взгляд на него так напугал Мальборо, что тот бежал из Англии.[356] Естественным делом было бы доверить это оружие Фенвику, чтобы тот использовал его для самозащиты. Почему они не сделали этого? На то есть ответ: никакого письма не существовало. И Мальборо не отвернул от взятого курса: он действовал, как человек за кем не числится постыдного и чёрного дела. Возможно, что так оно и было. Сэра Джона Фенвика обезглавили на Тауэр Хилл, 28 января 1697 года.
Нет достоинства непопулярнее бережливости. Всякому нравится дружелюбный транжира, хлебосол, торящий жизненный путь золотым дождём. Всякому неприятен скопидом, предпочитающий накопительство тратам. И особой неприязни удостаиваются те, кто печётся о каждом грошике. В дни, о которых мы пишем, каждый человек высокого общественного положения привык, и ожидал от ровни роскошной жизни и щедрых трат. Общество бессознательно переняло и сделало правилом джентльмена обыкновение средневековых рыцарей бросать кошельки трактирщикам, а золотые - лакеям. Людское мнение придирчиво судило о том, как некто тратит деньги, оставляя способы заработка без особого внимания. Правительственные круги смотрели сквозь пальцы на умеренные, подобающие обыкновению взятки, казнокрадство и коррупцию, считая эксцентричностями бережливость и скупость. Значит ли это, что расточительность, неумеренность, лёгкое обращение с деньгами идёт об руку с бескорыстием? Значит ли это, что скаредность споспешествует духовной нищете? Мы не считаем так; не думали так и тогда. Есть золотая середина: своя для каждого времени, для каждого человека и середину эту определяет одно лишь коллективное мнение современников.
И если судить Мальборо по стандартам его времени, он не заслужит оправдания: герой наш был в высшей степени жаден до денег, и очень скуп на траты. В те времена всякое государственное назначение было доходной статьёй, покупаемой по общеизвестному прейскуранту - доход иного рода давала только земельная собственность. Каждое продвижение в офицерском звании, за выслугу ли лет или за отменную службу, необходимо было выкупить за деньги. Капитанское, майорское, полковничье звания; командование полковым округом или подразделением лейб-гвардии; высокий пост в департаменте генерал-квартирмейстера, кресло в Совете Адмиралтейства, даже и придворные должности - места у трона - за всё это счастливые избранники королевского благоволения платили по рыночным ценам: ценам, менявшимся, в зависимости от спроса и предложения, словно котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже. Офицер, не имея средств, оставался без служебного продвижения. Офицер, поднявшийся до высокого звания, получал основательное выгодоприобретение, удачное вложение капитала: некоторую персональную ренту, что следовала за его персоной и карьерой, прирастая, увеличиваясь при каждом дальнейшем назначении. И, не считая примерами крайности, такое приобретение считалось законным, признанным источником дохода. В том не видели тайны; не считали коррупцией, но системой, обыкновением: припомним, как совсем недавно звания в британской армии покупались за деньги - и упразднение таковой коммерции памятно нашим современникам. В семнадцатом и восемнадцатом столетии не имевший денег не имел и ранга. Всякий властный чиновник был одновременно землевладельцем, и место его среди иных состоятельных персон можно было отранжировать двумя способами с почти равной точностью: по занимаемой должности и по акрам земельных владений. Монаршая и исполнительная власть видели в этой системе гарантию верности и правильного поведения, никто не задумывался о том, какие препятствия, громоздятся на пути безземельных талантов. Известны противоположные примеры, но общее положение дел оставалось именно таким, пока Французская революция не провозгласила, что Карьера открыта талантам[357] и лишь затем этот славный принцип лёг на слух, постепенно завоёвывая признание.
Мальборо прожил нищее детство. Обитая в Аше, крепкий выводок сэра Уинстона Черчилля питался и одевался так, что современные нам состоятельный английский мастеровой или сильный, трудолюбивый землекоп сочли бы их обстоятельства скудными, скверными и, уж, верно, примитивными и однообразными. На стол ставили приборы старого серебра; в комнатах стояли образцы мебели, ставшие в наши дни ценностью, предметом восхищения людей со вкусом; фамильные гербы восхваляли деяния многих поколений; быт же был прост, со многими нехватками. Но детство Мальборо стало удручено и иными причинами. Он, едва выучившись говорить и ходить, узнал, что и матушка, и батюшка, и он сам зависят от милостей и доброй воли бабушки. Он рос и видел, как прозябает в нищете отец, опальный Кавалер. Он слышал толки о взысканиях Круглоголовых; о частых тяжбах с правительством, с родственниками и свойственниками за малые гроши, за деньги, без которых нельзя было содержать хозяйства. И денег не стало больше, когда он - за привлекательную наружность и по отцовой протекции - стал придворным пажом. Его отлично кормили, и нарядно одевали, но он оставался бедняком - нищим среди тех, кто держали в руках большую часть национального богатства. Его окружали юные сверстники, баловни фортуны, наследники обширных угодий и громких титулов. Он был глиняным горшком в ряду железных. Жизнь больно ударила его во второй раз.
Не дожив до восемнадцати годов, он понял, что никогда не сделает карьеры, не найдёт жены, не заживёт своим домом, не получит и самой умеренной независимости, если не научится зарабатывать и не сумеет сберегать. Дальнейшее совсем не удивительно, хотя и ничуть не романтично: первой и основной его заботой стали деньги. В свои двадцать тридцать, он, по складу характера, весьма походил на канонического для нас француза: благороден во всём, кроме денег; готов рисковать собой, щедро проливает собственную кровь, но очень прижимисто тратит монету. И в этой его расчётливости проглядывает нечто благородное, некоторое самопожертвование, но никак не низкая корысть. Мы видели как он, после душераздирающих отсрочек, женился на девице, почти такой же бедной как он сам, не имея дома, куда мог бы привести суженую. Мы видели, как он женился по любви в двадцать восемь, и, одновременно, помог отцу избавиться от долгов, отказавшись от наследственного интереса в маленьком фамильном поместье. По самой высокой мерке, то были проявления благородного духа. Он нуждался в деньгах, желал жить в достатке, и не осечься в карьере, но эти соображения не перевесили он просто отбросил их прочь истинной любви и сыновнего долга.
Но благородные дела лишь усугубили его прижимистость и предусмотрительность. Он не мог играть и бражничать с людьми своего положения. Он не мог позволить себе и малейшей экстравагантности. Он умеренно ел и мало пил, предпочитая делать и это за чужой счёт, он избегал любых излишеств в одежде. Он был всегда строг и точен в денежных расчётах. Он платил по счетам с величайшей расторопностью. Он даже вёл книги собственноручно, тщательно, внося туда самые малые хозяйственные расходы; он вёл себя не как весёлый и галантный придворный, природный джентльмен, но словно торговец, кто живёт собственной честностью и кредитоспособностью. И даже потом, через пятнадцать лет, получив некоторые доходные должности, он остался беднейшим из людей высокого общества, где по праву занимал положение. Он был граф, но самый неимущий граф во всей Англии. Он был генерал-лейтенант, первый военный страны, со званием и без должности. Он не кланялся перед королевской неприязнью. Он имел основание ждать многолетнего перерыва в карьере. Малейшее финансовое неразумие могло лишить его будущности. Итак, он остался при привычке к строгому и скупому самоограничению, как привык с малолетства и юности - к привычке, ставшей для него спасением.
Прискорбное обстоятельство; нет слов, у историков есть все основания потешаться и глумиться над ним. Но их насмешки лишь тень острот и шуток, что отпускали на счёт Мальборо современники. Возможно, многие истории о его скаредности не имеют фактического основания, коренясь в одной только репутации Мальборо. Так или иначе, истории эти - правдивые или вымышленные или преувеличенные неминуемый материал для биографа: в них выражено мнение общества, в котором он жил. Мы упоминали, что в 1692 году Мальборо имел всего три мундира, один из которых надевал только при важнейших случаях государственного значения. Он пишет Сара был статен, словно ангел пусть и одетый кое-как ангел. Он возвращался из дворца домой, по грязным улицам, экономя на найме портшеза. Он чурался развлечений. Он обходился без трат на еду и вино даже тогда, когда принимал у себя армейских офицеров, стараясь привлечь их к своей партии. Маколей несомненно не лжёт, весело рассказывая о том, как горевал Мальборо, ограбленный дорожным разбойником на пять сотен гиней. Истории о великом периоде жизни нашего героя говорят о большей его эксцентричности; но здесь - если это правда - ему труднее найти оправдание. Покойный лорд Батский рассказывал следующую историю об удивительной скупости этого великого мужа пишет Сьюард в Анекдотах опубликованных в 1795 году:[358]
В городе Бате, лорд и его брат, генерал Пултни (бывший адъютантом герцога во Фландрии) играли в карты в доме, что назывался Вестгейт Хаус, и был в то время жилищем лорда Батского. Герцог проиграл некоторую сумму, и, уходя, попросил генерала Пултни одолжить шесть пенсов [то есть, около полукроны] на плату за портшез. Деньги, разумеется, стали дадены; и когда герцог покинул комнату, лорд Батский сказал брату: Готов побиться на любой заклад, что герцог пойдёт домой пешком. Непременно проследи за ним. Генерал пошёл следом и, к удивлению своему, увидел, как тот пешком идёт к своему жилищу.[359]
Сьюард рассказывает и другую историю о расчётливости герцога - даже и в отношениях с любимой Сарой - но здесь Мальборо не выглядит скаредным, хотя речь идёт уже не о грошах, но о крупной сумме.
Герцог отметил поведение одного молодого офицера в боевом деле во Фландрии, и послал того в Лондон, с донесениями и письмом к герцогине: в письме Мальборо просил жену исхлопотатть офицеру повышение в звании. Герцогиня прочла письмо, и, согласившись помочь, спросила молодого человека: есть ли у того тысяча фунтов, чтобы получить повышение? [Речь идёт о том, что молодой человек должен был передать выкупную сумму офицеру, на чьём месте оказывался после продвижения] Юноша покраснел, и признался, что никак не располагает такими деньгами. Что ж, тогда ответила герцогиня вы можете возвращаться к герцогу. Что тот и сделал в скором времени; и рассказал Мальборо, как был принят герцогиней. И герцог со смехом ответил: Я предполагал, что тем и кончится; вам, впрочем, лучше повезёт в другой раз - и, дав ему тысячу фунтов, отправил в Англию. И вторая поездка оказалась успешной.[360]
Свифт опёрся на следующий случай, чтобы нанести разящий удар: тот, кому случилось рискнуть жизнью за пару чулок. Однажды, во времена главнокомандования Мальборо, он так промочил краги, что их нельзя было снять, и пришлось резать; тогда он в присутствии группы офицеров безо всякой стеснительности дал денщику детальные инструкции: как резать краги по шву, чтобы потом зашить их и снова использовать.[361] А вот история о том, как принц Евгений
остро охарактеризовал его: принц получил письмо от Мальборо, не смог прочесть и передал иному человеку, чтобы тот прочёл письмо вслух. Чтец увидел затруднение в том, что герцог не ставит точек над i и сказал об этом; и принц ответил: Он экономит чернила.[362]
Образцы почерка Мальборо, как может видеть читатель этой книги, опровергают историю про i: возможно, что Евгений попросту подшутил над известной слабостью друга и боевого товарища, коим всегда восхищался. Но продолжим.
Вот история об офицере, кто ночью принёс в палатку Мальборо некоторое сообщение. Герцог встал с кровати, спросил какое доставлено сообщение, устное или письменное и, узнав, что не письменное, сказал: Тогда погасите лампу.[363]
Возможно, он попросту не хотел, чтобы люди видели, с каким видом он выслушает сообщение. Но бога ради пусть он и экономил на свече.[364]
Неопровержимо, что когда Мальборо планировал знаменитый марш на Дунай, он, между прочего, разработал и график где, в какой бригаде и дивизии он будет обедать в тот или иной день, не открывая, естественно, мест бивуаков. Его походные спутники часто восхищаются великолепными серебряными винными бутылями и флягами размером с бочонок что возил с собой Мальборо, но и это, и другое роскошное столовое убранство использовалось лишь на приёмах государственного уровня, когда он, по обязанности, развлекал принцев и генералов Великого союза или при прочих особых обстоятельствах. Не будучи сам эпикурейцем пишет Сьюарт,
... герцог, подобно Людовику XIV получал удовольствие, глядя, как едят другие; тогда он отчасти разделял их удовольствие, пусть это и стоило ему денег. Лорд Кадоган рассказывал, что герцог, однажды и целый день ходил мрачнее тучи, и явно волновался, что было совсем не в его обыкновении; но к вечеру появился гонец с некоторыми приятными новостями. Мальборо немедленно приказал разместить гонца так, чтобы никто не мог бы говорить с ним; затем распорядился открыть свою карету, достать некоторую провизию: ветчину, иные хорошие вещи и накрыть стол для нескольких главных офицеров; он смотрел, как они ели, не взяв в рот и крошки.[365]
Возможно, что здесь описан типичный случай. Бережливость не была правилом тех дней, и полевые генералы держали обильный и открытый стол для еженощных пиршеств в приятном обществе если позволяла военная обстановка. Но Мальборо жил очень просто, в компании одних ближайших из личного штаба. Повторюсь: и это было великим прегрешением для генерала начала восемнадцатого века. Бригадиры, иногда полковники ездили со вьючными животными и повозками, с обозом, отвечавшим их достоинству. Дорожные издержки, по традиции, ложились на гражданское население, на младших офицеров; на имевших дело с обозом по долгу службы; так что командующий европейской коалиционной армии на главном театре генерал с королевским доходом кто, против обыкновения, разъезжал и столовался совсем не в меру своего императорского положения, был, по тем временам, явлением совершенно неуместным. Что за разительный контраст с помпезными выездами на фронты Великого короля! Ни любовниц; ни артистов; ни поэтов; ни художников; ни историков не было даже и тех - за одним исключением: капеллан Хеар; ни подобающего скопления подхалимов и прихлебателей; дороги не загромождены обозами с кухнями и всякими удобствами одна сквалыжная, отвратительная умеренность, исходящая, несомненно, из мысли о сбережении шести пенсов! Умеренность, исходящая из низких мыслей! Где она, военная слава? Мог ли в те дни человек, так слабо проникнутый духом войны, рассчитывать на военную славу? Но на войне случаются и сражения: приходится считаться и с этим, необходимым и неприятным обстоятельством.
Кажется, Мальборо смотрел на войну как на солидное деловое предприятие, несовместное с удовольствиями и личными капризами. И это стыд для его почитателей. Всяк чувствует, что благородство, геройство, виктории нашего героя запятнаны таким поведением. Стыдимся и мы; стыдимся, но не умолчим о скандальных фактах и легендах. Правда же в том, что Мальборо в силу воспитания и жизненных превратностей ненавидел расточительство в любых его проявлениях, особенно скупясь в мелочах. В нём воплотился тип современного миллионера, кто, неустанно стяжая, тратит на себя гроши, но отдаёт целое состояние на семейное благоденствие, на будущее детей, на сооружение величественных зданий, на благотворительность.
Мальборо очень схож с таким коммерсантом. В нём занимательным образом соединились деловая предприимчивость и имперское видение сегодня подобное сочетание качеств будоражит поклонников и критиков Сесиля Родса. В 1666 году, два канадских протестанта французского происхождения затеяли меховую торговлю в окрестностях Гудзонова залива, но не нашли поддержки ни в Квебеке, ни в Париже, и обратились к Англии, приехав в Лондон и испросив аудиенцию у Карла II. Поездка оказалась удачной, и предприниматели основали регулярную торговую компанию. В 1670 году король Англии дал разрешительную грамоту Губернатору и Совместному предприятию английской торговли Гудзонова залива. Первым губернатором компании стал князь Руперт; он переизбирался на эту должность двенадцать раз и оставался во главе дела до самой своей смерти. Преемником его стал Джеймс, герцог Йоркский, избранный в 1683 году. После того, как Джеймс Йоркский стал королём Иаковом II, его сменил Джон Черчилль. Так наш герой стал третьим губернатором Компании Гудзонова залива.[366] Новый губернатор читаем мы отменно поработал для Компании.[367] Дивиденд 1688 года составил 50 процентов; в 1689 акционеры получили 25 процентов, а в 1690-м - 75-процентный дивиденд; тогда же решили провести довыпуск акций, утроив первоначальный капитал. Речь не идёт о дутой спекуляции: первоначальный капитал был 10 000 фунтов, но в 1690-м одни товары на складах стоили дороже; а годовой промысел ценного бобра, по прогнозам, обещал принести 20 000; к тому же, компания выставила французам иск в 100 000 за нанесённый ущерб. Последовало распространение торговых операций на обширнейшие территории и подъём оборотов. Река что шла с далёкого севера и впадала в залив с запада, получила имя Черчилл-ривер в честь нового губернатора, а в устье новоокрещённой реки в 1686 году открылся порт, ставший центром торговли на западе Канады. Дело это дожило до наших дней. В трудах историков Компании Гудзонова залива во многих местах говорится об энергии и отзывчивости лорда Черчилля.
Роль Черчилля в революции обеспечила компании хорошее положение при новом царствовании. В июне 1689 года Мальборо разработал инструкцию от имени Вильгельма и Марии; документ огласили по постам на берегах залива. В скором времени он доложил компании, что правительство отрядило сотню морских пехотинцев для защиты артельных судов. Директора и акционеры с большой радостью приняли высокий знак внимания, доставленный им великой влиятельностью лорда Черчилля; мы читаем в отчётах искренние изъявления благодарности в адрес губернатора и узнаём, что компания подарила ему некоторый предмет сервиза из чистого золота стоимостью в сто гиней - за выдающиеся заслуги. Арест и заключение Мальборо в 1692 году оборвали эту счастливую деятельность. Монополия и привилегии компании требовали губернатора с влиянием при дворе. Описанное выше удаление Черчилля из армии и со всех государственных должностей неизбежно повлекло за собой потери в частных его делах. В ноябре 1692 года компания выбрала на место Мальборо нового губернатора, сэра Стефена Эванса.
В том, как Мальборо управлял армиями, вполне сказывалась его привычка к личной бережливости. Он всегда беспокоился о закупочных ценах, вдаваясь, не по чину, и в самые незначительные подробности. И вместе с тем, что примечательно, он пользовался популярностью в войсках должно быть оттого, что солдаты, его заботой, пунктуально получали рационы и жалованье, а гражданское население полновесную плату за поставленные войску припасы; не удивительно, что офицеры и солдаты никак не ощущали скаредности командующего и смотрели лишь на его победы. Естественно, они не могли составить должного впечатления об его прижимистости. Простые, обыкновенные солдаты знали лишь, что о них хорошо заботятся и что они не знают ни в чём нужды. Они и знать не знали об истории со свечой или крагами. А если бы и знали, то не придали бы этому значения в силу своего представления о градации ценностей. Наверное, они бы как-то пошутили над этой историей, и ещё больше полюбили бы своего командующего. Но историка не так-то просто удовлетворить; мы не должны уходить от правды. Фридрих и Наполеон остались известны как умельцы по извлечению выгод из управления войсками. Но Мальборо умел зарабатывать на походах куда лучше этих обоих, и, несомненно, лучше любого предшественника или последователя за исключением сэра Герберта Китченера: последний управлял отбитым Суданом, радея о доходах как управляющий крупного универсального магазина.
И мы, при всей болезненности темы, должны сказать об этом с полной откровенностью. Другое дело, что имеются, и должны быть упомянуты некоторые смягчающие обстоятельства. Паджет пишет:
Он, во времена нищеты и бесчестия, отказался от щедрости принцессы Анны; он, несколько раз, отвергал государственную должность в Нидерландах - место с королевским доходом в 60 000 годовых; он был щедр к молодым и достойным офицерам; он распределил все деньги, что были в личном его распоряжении между ранеными вражескими офицерами после сражения при Мапльплаке; пока он был жив, дети его ни в чём не знали недостатка[368]
- всё это говорит в пользу Мальборо. Добавим сюда раннюю и нерасчётливую женитьбу по любви, оплату отцовых долгов ценой потери наследства: возможно ли нам видеть в нём не одно лишь чистое воплощение низости и алчности? Пусть читатель сам ответит на этот вопрос.
Конечно же, свидетельства Сары должно рассматривать с огромным подозрением, как безнадёжно предвзятые и, несомненно, вопиюще необъективные показания в пользу мужа. Что поделать с такими чувствами. Тем не менее, у супруги были исключительные возможности для наблюдений за постыдной стороной мужнина нрава. Более того, Сара не пытается скрыть низкого. С самой юности пишет она
...он никогда не потратил и шиллинга сверх дохода В герцоге Мальборо никогда не было ни крохи тщеславия и после долгих лет на важнейших назначениях, он оставил огромное наследство неудивительно, ведь жил он долго и никогда не разбрасывался деньгами. И деньги были вложены на многие годы, принося шесть процентов. И он клялся мне святым именем, хотя это и не имело для меня значения, что не продал ни одного продвижения по службе, ни титула, ничего и никому за всё правление королевы Анны, хотя и попал так надолго в её фавор. По своей натуре, он был очень сострадательным человеком, и давал собственные деньги тем, с кем был долго знаком, кто были бедны, пусть они и расходились с ним во взглядах. Я живой тому свидетель: он, будучи заграницей, поручал мне платить некоторые пенсии, и брать о том расписки у названных персон.[369]
Судя по всему, экономии Мальборо касались именно его самого, не распространяясь на дом и семью. Вскоре после нашей свадьбы продолжает Сара
когда мы жили так бездоходно, что нуждались в изрядной экономии средств, лорд Мальборо, при всей его природной склонности к бережливости,[370] выказал иную природную черту снисходительную доброту и, вопреки ведению дел, как то предписывали наши обстоятельства, обязал меня устраивать и дела моей семьи.[371]
Пишут о прижимистости Мальборо в мелочах чаевых и тому подобном должно быть, это говорило не в его пользу; в то же самое время, он был необычайно любезен и дружелюбен с подчинёнными, проявляя исключительную сердечность к нижестоящим на социальной лестнице. Такого доброго нрава писал Эйлсбери я не встречал ни в ком. Он не позволял себе выбранить слугу и за самую скверную работу; а когда командовал войсками, никто из самых незначительных нижних чинов, ни один сержант, капрал или солдат не слышали от него ни единого грубого слова.[372] Мы находим в свидетельстве Эйлсбери лишнее подтверждение тому обстоятельству, что Мальборо, при всей его проницательности в высоких материях, при всей смехотворной личной скупости, был обходителен до прямого попустительства с собственными слугами.[373]
Природная его доброта неколебимо устояла в годах войны и триумфа: приведём здесь историю 1709 года о плаще и ливне.
Однажды он ехал верхом в компании интенданта Мариота: пошёл дождь и герцог попросил дать ему плащ; слуга Мариота мгновенно надел плащ на хозяина. Герцогу не несли плаща; он попросил снова, но слуга всё путался в ремешках и пряжках. Дождь тем временем хлынул с большой силой, и герцог повторил распоряжение, добавив, что не понимает, чем так занят слуга, отчего он не несёт плащ? Льёт, как из ведра - прорычал слуга ну, терпите, пока я не достану его. Герцог повернулся к Мариоту, и невозмутимо сказал: Я совершенно смущаюсь перед крутым нравом этого человека.[374]
Качества эти сыграли определённую роль в истории Европы. Из всех людей, кого я знал пишет лорд Честерфилд:
- покойный герцог Мальборо был наделён величайшим можно сказать, непревзойдённым обаянием. Несомненно, он, главным образом, и возвысился благодаря этому качеству: пусть умудрённые историки привычно пишут о глубоких причинах великих событий, но я отношу добрую половину величия герцога Мальборо на счёт его привлекательных манер. Он не источал великолепия гений его не сиял. Он неоспоримо обладал ясным разумом и трезвостью ума; качества эти обнаружились в нём уже тогда, когда он был пажом королевы Иакова II, но вряд ли бы подняли его до высоких степеней. Но здесь защитой и подмогой ему стало обаяние. Он отличался прекрасным телосложением, но, главное, манерами: перед ними не могли устоять ни мужчины, ни женщины. В годы войны, он, благодаря любезному обхождению, умел разрешать свары, сообщаясь с властями стран Великого союза, и обращал их намерения, частные и сепаратные, завистливые и упорно-неразумные, к решению главной военной задачи. По должности, он имел дело со всякими дворами (зачастую неуступчивыми и невосприимчивыми) но всегда умел повести их за собой. Пенсионарий Гейнзиус, кто сорок лет правил Соединёнными Провинциями, всецело подпал под влияние герцога. Мальборо хранил неизменное спокойствие; никто и никогда не видел в нём и намёка на волнение; отказ в его устах звучал приятнее, нежели одобрение иного человека; и те, кому приходилось уходить от него в полном разочаровании, не получив никакого удовлетворения в делах, уходили под обаянием его манер, находя в этом утешение.[375]
Спустя несколько лет представитель (комиссар) при союзнической армии Сикко ван Гослинга[376] - позднее читатель познакомится с его враждебными высказываниями оставит запись о Мальборо: возможно, это наилучшее словесное изображение нашего героя.
Вот его портрет, нарисованный в меру всей моей проницательности. Это природный аристократ; среднего роста, совершенного телосложения, без единого телесного изъяна; с красивыми, живыми глазами, хорошими зубами, кровь с молоком иная особа слабого пола может позавидовать такому цвету лица; итак, это самый статный на целом свете мужчина, с одним недостатком слишком тонкими ногами. Ум его быстр и проницателен, суждения отчётливы и весомы, он проникает в суть глубоко и споро, он превосходно знает людей, никакой показной блеск не обманет его. Он умеет выражать свои мысли, несмотря на очень плохой французский: голос его приятен и когда он говорит на родном языке, его можно поставить среди лучших ораторов. Речи его очень учтивы; мужская стать и благородная наружность располагают каждого с первого взгляда, а отменные и мягкие манеры обезоруживают любых, кто приходят к нему с предубеждением или злобой. Он смел и не единожды выказывал храбрость, попадая в критические обстоятельства; он опытный воин, планы его кампаний восхитительны. До сих пор я перечислял его достоинства. Теперь о недостатках, что я нашёл в нём если не заблуждаюсь. Герцог лицемер до мозга костей, тем более опасный, что поведение его и речи убеждают в честной искренности. Амбиции его безграничны, а движет им одна лишь жадность - такая, что я могу назвать её алчностью. Пусть он храбр а он несомненно храбр, что бы ни говорили завистники и враги ему недостаёт силы духа, присущей истинным героям. Иногда, накануне дела, он становится нерешителен, или, что хуже того, не хочет идти навстречу трудностям, впадая пусть и нечасто - в уныние, чему я был несколько раз свидетелем, так что говорю об этом наверняка. Впрочем, я не видел ничего подобного ни при Рамильи, ни при Мальплаке[377] возможно, это какая-то слабость его организма, проявляющаяся с утомлением, что-то вроде этого. Он мало думает о воинской дисциплине, и позволяет солдатам много излишних вольностей: время от времени, такая распущенность приводит к ужасным эксцессам.[378] Более того, он недостаточно образован для главнокомандующего не зная некоторых необходимых подробностей военного дела. Но перечисленные недостатки почти невесомы сравнительно с редкими достоинствами этого поистине великого человека.
В подтверждение мы можем привести картину с фронтисписа этого тома. Из всех современных портретов герцога, этот привлекает больше всего. Трудно поверить, что художнику позировал человек за сорок - но ему ещё нет пятидесяти лет, он не успел получить Подвязки; он не носит ещё жезла главнокомандующего. Определённо, мы видим обезоруживающее очарование этого прекрасного лица очарование в чём-то женское, странное для безупречно мужественного характера; мы видим изысканность, шарм. Мы никак не видим того, о чём пишет Маколей: холодных, тусклых глаз - глаз в действительности серо-зелёных - но мудрое, пытливое, слегка насмешливое выражение губ и ноздрей и, разумеется, всего лица; мы отмечаем гармонию черт; на нас задерживается взор, исполненный олимпийского спокойствия, объясняя, отчего человек этот умел так влиять на всех, с кем ему пришлось встретиться в жизни.
А это портрет Сары, кисти Кнеллера: с ним связана хорошо известная история. Однажды, в яростной размолвке с супругом, она решила срезать длинные свои волосы, предмет его восхищения.

... И немедленно сделала это. Она обрезала их накоротко, и положила отрезанные волосы в прихожей, где он непременно должен был пройти по пути в её покои. К горькому её разочарованию, он прошёл, вошёл, вышел и снова прошёл по прихожей со спокойствием, завидным и для святого; никак не гневаясь, не печалясь: в совершенном безучастии к собственной вине и наказанию. Герцогиня решила, что он просто не заметил волос, и кинулась прятать их. Боже! они исчезли. И она осталась в великом замешательстве до ночи. Утром она успокоилась, а зеркало показало всю прискорбность произошедшего изменения, так что герцогиня задумалась о совершённой глупости...
И лишь после смерти мужа, она нашла волосы в его тайном шкафу, где Мальборо держал ценнейшие личные вещи.
Мы обязаны этой записью леди Мери Уортли Монтегю;[379] в преклонные годы герцогини, она была её молодой подругой. Сара привыкла рассказывать эту историю близким друзьям, и рассказав в этот раз, бросилась навзничь, и зарыдала. Кнеллер рисует Сару дней расцвета, но с очень горьким выражением лица, а с плеча свисают обкорнанные ею волосы.[380]
Гослинга, как мы успели заметить, опровергает утверждение Сьюарда о чрезвычайно скрипучем голосе Мальборо. Кажется, последнее мнение основано лишь на нескольких строчках Поупа сочинённых о Мальборо вскоре после смерти единственного из выживших во младенчестве сыновей герцога, лорда Черчилля, где - говорит Сьюард - с изрядной злобой говорится о голосе рыдающего привидения ... скорбящего о потере сына. Фрагмент между прочего иллюстрирует лютые политические нравы того времени. Поэт, глумящийся над скорбью отца, горюющего о сыне, немедленно и на все времена ставит себя в ряд людей с недвусмысленной репутацией.
Ремарка Сары о неподкупности мужа ставит вопрос, ответ на который допускает лучшую основательность. Мальборо, несомненно, пользовался выгодами каждой занятой им должности, приобретая по правомочию либо в меру общепринятого обыкновения. Но до сих пор никто не сумел доказать, что он брал сверх этого. Тогдашняя палата общин отличалась бдительностью: обвинения в коррупции и казнокрадстве неизменно и часто звучали в её дебатах. Вторая и окончательная дискредитация Денби в 1695 году вот примечательный пример ревностности и бесстрашия, с какими исполнял обязанности тогдашний парламент. Оба брата Джона Черчилля, Джордж и Чарльз, в один год и на некоторые сроки оказались в Тауэре за финансовые непорядки и злоупотребления и такие случаи были вовсе не редки. А за Мальборо следили ревнивее прочих. Он нажил слишком много врагов. И он никогда не был своим человеком какой-то партии, и не пользовался протекцией, что защищала иных. И всё же, он, преследуемый оговорами, слухами, и злословиями как большинство выдающихся персон, никогда не оказывался перед обвинением вплоть до знаменитых расследований 1712 года да и те, как увидит в должном месте читатель, полностью провалились. Вполне допустимо предположение, что человека, известного своей бедностью и жадностью до денег; человека, долго и открыто враждовавшего с королём и могущественными персонами двора, неминуемо призвали бы к ответу, будь вопиющие его злоупотребления правдой, а не одним злословием. И в тот жестокий век он стал бы последним кандидатом на охранную грамоту.
Но самые тщательные исторические изыскания оказываются безрезультатными. И если вспомнить, какие мастеровитые и злонамеренные авторы копались в записях прошлого, искали любой клок информации, способной очернить его в глазах потомства, мы поразимся тому, что при всём этом усердии в анналах нашлись лишь прижизненные слухи и сплетни - и ничего более.
Противники Мальборо выжали досуха всё, что смогли извлечь и из самых сомнительных источников. В овациях, справедливо разразившихся после его дел при Валькуре - пишет Маколей
... не утонули голоса некоторых людей, ворчавших, что герой, дав нам или сохранив нам золотой, остался всего лишь Эвклионом, всего лишь Гарпагоном; что, получая большое пособие под тем предлогом, что должен держать открытый стол, он никогда не пригласил ни одного офицера к обеду; что он жульничает с полковыми списками; что он прикарманивает жалование, полученное на давно мёртвых солдат, на солдат, убитых перед собственными его глазами четыре года тому назад при Седжмуре; что в одном лишь эскадроне насчитывается двадцать таких имён.
На это энергично ответствует Паджет:
Поскольку Скупой впервые пошёл на сцене в 1667 году, очень возможно, что какие-то якобиты приспособили к яро ненавидимой ими персоне имя Гарпагона; но Поуп никак не родился до 1688 года, а значит голоса, не утонувшие в овациях 1689 года ворчащие, что Мальборо всего лишь Эвклион принадлежали одним лишь читателям Клада Плавта...[381]
Маколей подтверждает, что вышеприведенный ядовитый пассаж основан лишь на Дорогой покупке, якобитском памфлете подпольно напечатанном в 1690.[382] В процитированном здесь отрывке он копирует Дорогую покупку едва ли ни дословно за исключением нескольких собственных - и неуместных - перлов.[383] Дорогая покупка - длинная череда злобных оскорблений, направленных в адрес Вильгельма и Марии, а Мальборо задет лишь между прочим. Мы знаем мнение Маколея о якобитских памфлетах и памфлетистах в тех случаях, когда они атакуют любезных Маколею, восхваляемых им персон: ничто не может сравниться тогда с яростью насмешек, коими он осыпает этих закоренелых лжецов. И в то же время он не стесняется искать свидетельств против Мальборо в тех же источниках - в материалах, что сам отбрасывает с презрением, когда Вильгельм обвиняется там в гадостях, грязных как те, что похоронены теперь на дне Мёртвого моря. Принцип Маколея прост и удобоприменим: якобитские памфлетисты заслуживают доверия только тогда, когда они нападают на Мальборо.
Весьма странно, что Маколей в процитированном выше пассаже обнаруживает предосудительное поведение в том, что Мальборо получая большое пособие под тем предлогом, что должен держать открытый стол... никогда не пригласил ни одного офицера к обеду. Мальборо экономил на всех полученных от государства пособиях, и мы никак не станем подвергать это сомнению - но таковая критика не приличествует именно и персонально историку Маколею. Маколей, по собственному признанию, принял в 1833 году место в Верховном совете Индии главным образом для того, чтобы составить состояние, и вёл жизнь никак не приличествующую тому, что ожидают на Востоке от чиновника высочайшего положения - он жил не по приличиям скромно, успешно сберегая большую часть своего годового жалования в 10 000 фунтов. Мы не порицаем Маколея за бережливость. Наша страна много выиграла от безбедного существования историка в последние годы его жизни. Но именно он, лично он, должен был понять, что таковой упрёк в сторону Мальборо показывает некоторую аберрацию зрения.
Мы, вероятно, можем прийти к следующему заключению: Мальборо действовал в рамках стандарта, предписанного временем - он получал комиссии, вознаграждения, доходы - регулярные и разовые - от вверенных ему офисов, от всех своих назначений, но не брал взяток и денег, не полагавшихся по обычаю или закону. Он всегда откликался на голоса бескорыстной любви и привязанности: он не считался с деньгами, когда выбирал жену, помогал отцу, обеспечивал детей; но укоренившиеся с рождения привычки к бережливости и самоограничению стали тем пунктом, что атаковали, и высмеивали завистливые современники; тем тезисом, что выставляют напоказ злонамеренные историки. И те же самые привычки - пусть по видимости и неприятные - неотъемлемы от личности Мальборо - собирателя, строителя, основателя. Черты эти часто отходили в тень или вовсе исчезали, подавленные отзывчивой обходительностью его натуры. И от того же корня пошла его манера вести войну, эта практическая, терпеливая, методичная, кропотливая подготовительная работа единственно возможное основание для великих дел, прославивших нашего героя. И частные дела Мальборо отмечены той же серьёзностью, тем же непременным здравым смыслом, так же свободны от капризов и глупостей, как его война или его политика. Личная судьба Мальборо стала устроена по тем же принципам, что и его военно-штабная деятельность, это стороны одного плана. Он рисковал всем только в любви или на поле сражения. Тогда, в моменты наивысшего возбуждения, он отбрасывал прочь всю свою систему, все жизненные правила и ослепительно сверкал героическими достоинствами. В истории его женитьбы, в его военных победах нет суетной мудрости, расчёта, страховки правил его повседневной жизни, принципов его стратегии - он сбрасывал всё это, словно изукрашенную, но неудобную в отчаянном деле мантию и гений его выпрастывался из-под покрова, чтобы решить дело прочно и победоносно.
Затянувшаяся на восемь лет война, получившая название войны Аугсбургской лиги, пришла к нерешительному концу. Морским державам и Германии удалось успешно отбиться от Франции, уплатив истощением, не достигнув выгод. Испания осталась при боевом духе и в полной беспомощности. После ухода флота Англии из Средиземного моря, герцог Савойский пошёл на мир с Францией, и королю Испании пришлось согласиться с дальнейшим нейтралитетом Италии. Один лишь австрийский император, не упуская из виду близящуюся вакансию на испанском троне, стремился удержать деятельное бытие антифранцузской конфедерации. Но тот же резон диктовал Франции прямо противоположный политический курс. Людовик совсем не хотел дожидаться времени, когда испанская империя, её владения в Старом и Новом свете станут тем призом, что вдохновит всех врагов Франции, и заново укрепит их в мужестве и союзничестве. Он знал, как много внутренних напряжений раздирают Великий союз. Он видел, как вражеский альянс трещит по швам после многих бесплодных кампаний. И если этот союз, наконец, развалится на составные страны-части, воссоздание такого массивного и мудрёного механизма станет затруднительным - даже невозможным - делом. Он полагал, что собрать его снова не сумеет никто, кроме Вильгельма но как долго осталось жить Вильгельму? А подписанный мир распустит вражескую коалицию. Многие прежние союзники сбросят доспехи и, так или иначе, приступят к разоружению; тем временем великая центральная держава, сумевшая устоять перед всем Альянсом, пусть и при крайнем напряжении сил, воспользуется преимуществами абсолютизма, даст пополнение армиям, укрепится, и скорее приблизится к цели за время мирной передышки, нежели это удалось за годы войны. Помимо прочего, долгая борьба со всей Европой серьёзно подорвала силы французского государства. Итак, в конце 1696 года Людовик предложил Вильгельму предварительные условия мира. Постепенно выяснилось, что Франция желает оставить за собой все приобретения в Нидерландах и на Рейне по Нимвегенскому трактату за исключением Страсбурга, получив, однако, за Страсбург солидное возмещение.
Вильгельм, с его многолетним знанием европейской ситуации, превосходно понял смысл условий Людовика. Но натиск тех, кто хотел мира особенно в Англии пересилил Вильгельма. Переговоры открылись в Рисвике, при посредничестве Швеции и затянулись на долгое время. Французы воспользовались замирением на итальянском театре, и, перебросив пятьдесят тысяч солдат на северный фронт, не торопились заканчивать кампанию. Межсоюзнические трения, разработка церемониала, скрупулёзная утряска вопросов чести и достоинства заняли большую часть 1697 года. Император решительно протестовал, желая получить Страсбург. Но императору пришлось уступить, ввиду морального изъяна собственной позиции: именно он пошёл на сепаратное соглашение, нейтрализовав итальянский фронт и высвободив оттуда французскую армию. Несчастья под Барселоной, Картахеной и в Индиях усмирили испанцев. Английский парламент роптал, требуя мира.
Пакет соглашений, покончивших с мировой войной, стал готов лишь в октябре 1697 года. Помимо территориальных договорённостей Людовик безусловно и с любопытными экивоками признал Вильгельма королём трёх королевств. В трактате нет имени Иакова II, но Людовик обязался не поддерживать впредь никаких врагов Англии, добавив слова безо всякого исключения; переговорщики нашли такую формулировку вполне удовлетворительной, так как она распространялась и на короля в изгнании, и на принца Уэльского. Дополнительно, король Франции отозвал прежнее требование об амнистии для беженцев, что позволило бы якобитам, не принадлежащим к королевской семье, вернуться в родные края. Он восстановил несгибаемого принца во владении Оранжем, на одном лишь условии: в княжестве не должны были селиться французские гугеноты. Вильгельм, в свою очередь, более не настаивал на выдворении Иакова со двором из французского государства и стал так любезен читатель отчётливо почувствует здесь беззастенчивый дух времени что обязался, когда придёт время, выплачивать Марии Моденской вдовью долю, выторгованную и оговорённую как 50 000 в год. Потом всё изысканное европейское общество принялось взаимно раскланиваться да расшаркиваться, а измученные войною народы получили отдых после мучительной передряги.
Пятилетний перерыв между первыми девятью и грядущими десятью годами мировой войны 17-18 века обычно рассматривается как период некоторого примирения, передышки. На деле, в европейском положении после Рисвикского трактата можно найти многие элементы прочного мира. Определённо, все подписавшие договор стороны надеялись достичь желанных целей без дальнейшего применения оружия. Все были изнурены дорогостоящей и бесцельной войной. Великие европейские антагонизмы остались в силе; никуда не пропал и грядущий вопрос испанского наследства, чреватый многими бедами; но вместе с тем среди суверенов, правительств и народов в разной степени укрепилось искреннее желание не браться за меч, не истощив прежде всех возможностей дипломатии, не попытавшись решить дело торгом. После Рисвикского мира над Европой встали уже не одна, но две великие личности. Людовик XIV распознал в Вильгельме едва ли ни ровню. Великому монарху с великолепными армиями, при централизованной деспотической власти пришлось отдать должное королю - государственному мужу и солдату, главе Морских держав; человеку, кто стал - во многих отношениях - голосом большей части Европы. Они обменялись отменно подобранными словами взаимного уважения. Вильгельм подчеркнул почтение и восхищение Людовиком, Людовик глубокое уважение к Вильгельму. Он [Вильгельм] писал французский король в самом начале мирных переговоров
имеет все основания полагаться на моё уважение к нему, главе столь могущественной Лиги, составленной против меня, и на мою уступчивость в тех притязаниях, на коих, по его мнению, настаивают ведущие государства Европы; сама его твёрдость в отстаивании союзнических претензий, пусть и направленных против меня, убеждает меня в том, что я призван к переговорам, долженствующим установить благополучие Европы на столь же твёрдом основании.[384]
Оба владетеля на какой-то миг поддались удивительному, новому чувству, вообразив, что сумеют вдвоём, в добром согласии решить европейские трудности и дать покой христианскому миру. Они обменялись роскошными посольствами: дипломатические посланцы въехали в обе столицы с блеском и помпой. Изысканность и роскошество миссии прибывшего в Париж Портленда не уступали блеску, с каким явился в Сент-Джеймс французский полномочный министр: граф де Таллар. Его персона представляет особый интерес для нашего повествования. Он, как и Виллар, был одним из солдат-дипломатов, услугами которых иногда пользовалась Франция в пору наибольшего своего расцвета. Он заслужил хорошую военную репутацию. Сен-Симон считает его ничтожеством в дипломатии, но Таллар, определённо, был человеком весьма сообразительным, и отлично разбирался в делах. Его письма и доклады французскому правительству наряду с корреспонденцией посла Барильона, работавшего при дворах Карла II и Иакова II заново открывают нам окно в прошлое, захлопнутое на какое-то время войнами Вильгельма.
Вильгельм и Людовик в полном согласии подписали три международных договора. Первый, Карловицкий мир, заключенный в 1699 году при английском побуждении и посредничестве, улаживал отношения Священной Римской империи с Блистательной Портой. Первый раз в истории полномочные представители многих европейских государств провели совместные переговоры с турками. Избавление Вены от смертельной опасности - пусть и временное укрепило силы Империи, и значимо сказалось на общеевропейском равновесии. На севере, опасный спор между Данией и Гольштейном, грозивший, распространившись, вовлечь великие державы, стал разрешён в 1700 году Травендальским договором. И снова решающая роль досталась Вильгельму: голландский флот с согласия Франции доставил в Данию Карла XII Шведского. Два мирных договора упрочили славу и влияние короля Вильгельма и дали ему выгодное положение в строго секретных торгах с Людовиком по важнейшему из всех делу торгах о судьбе испанской империи после неизбежной и ожидаемой всеми кончины испанского монарха. Для большего удобства читателя мы отложим обсуждение Первого договора о разделе до одной из следующих глав.
Рисвикский договор никак не подорвал французской мощи, но стал самым прочным ограничением для Людовика с самого начала его царствования. Вильгельм поднялся на вершину славы. Казалось, он сияет наравне с королём-солнцем. Казалось, именно ему удалось привести к прочному миру восток, север, а теперь юг и запад Европы к миру после череды религиозных, династических и территориальных войн. Казалось, его радениями каждый человек в Европе обрёл желаемое и в этот самый момент палата общин обессилила Вильгельма, ослабила его прискорбно, чуть ли ни фатально. Спокойствие Европы требовало, чтобы он говорил с Людовиком на равных невозможное дело при недостаточных силах. Он должен был остаться средоточием всеевропейской влиятельности, должен был опираться на подавляющее англо-голландское морское превосходство но этого было мало. Он должен был иметь под рукой большую британскую армию.
Тори из деревенских джентльменов и доктринёры-виги, собравшиеся в Вестминстере, смотрели на вещи очень по-разному, и испытывали совсем несхожие настроения. Война закончилась; закончилось и парламентское смирение. Коммонеры наслаждались миром, и голосили о свободе. Опасность ушла; не навсегда ли? Окончилась величайшая война из всех войн Англии, а с ней потеряло силу и оправдание тяжелейших за всю историю страны расходов, так что Общины, давно ворчавшие на налоги и застоявшиеся в долгой сдержанности, принялись с места в карьер наводить экономию, взялись за разоружение, за упрочение конституционных гарантий. Обычное, частое повторение хода нашей истории. Своего рода незыблемое правило: Англия, упорная в войне и несгибаемая в бедствиях, отбрасывает прочь плоды победы, едва высвободившись из смертельных опасностей. Граждане наши, со всеми их правами и партиями, жертвуют всем, являют чудеса силы и доблести, но непременно становятся слабы и недееспособны, когда до величия или, по крайне мере, прочной безопасности остаётся самая малость, требуется лишь малая толика настойчивости. Теперь, после Рисвика как это случится в будущем, после Утрехта и Парижского мира 1763 года; после наполеоновских войн и Ватерлоо; как это случилось недавно, после Армагеддона пружина, двигавшая нашим островом в борьбе за европейские мир и покой, лопнула; страна разразилась гвалтом, раскололась на фракции, и распустила армии, тщась отыграться за военные досады и лишения на людях, кто провели Англию через войну.
Никто, разумеется, не мог знать, что наступила всего лишь передышка между двумя страшными войнами. Виги и тори возобновили вражду с фуриозной яростью, и к горькой этой сваре добавился один жгучий конституционный вопрос на нём сошлись обе партии, с такой же проблемой пришлось справиться современному английскому государству. Разнообразные страсти, побушевав, уступили место одному, главному опасению нации. Возникли три линии взаимно усугублявшихся трений. Англия закончила войну с регулярной армией в восемьдесят семь тысяч человек. По соображению короля, безопасность и интересы страны требовали, по самой меньшей мере, тридцати тысяч солдат со сверхкомплектным офицерским составом. Министры короны, войдя в сношения с парламентом, осмелились предложить только десять тысяч, а Общины согласились на семь, сократив и флот - хотя и не столь жестоко. Сандерленд с его опытом понял, что не сумеет выдержать поднявшейся бури. Подобно лорду Чемберлену, он рискнул уйти от партийной ангажированности. Он решил, что целесообразнее будет отсидеться за кулисами и король не смог переубедить его. Сандерленд понял суть сил, пущенных в работу, лучше своего господина. Дело осложнила общепризнанная необходимость в постоянном и крупном гарнизоне для Ирландии; две тысячи солдат нужны были для Ост-Индий; три тысячи морских пехотинцев несли службу как моряки, будучи на деле пехотой. Новый парламент остался при требованиях предшествующего, повторяя их с куда большей настоятельностью. Депутаты возглашали со всех трибун, что распустят постоянную армию, и обрежут расходы донельзя. Они твердили об экономии. И сокращение прошло самым жестоким образом. Побитые войной ветераны, славные воины беженцы-гугеноты, стали в одночасье вышвырнуты на улицу, и если что третировались как бездельники и бродяги. Ситуацию удалось отчасти остудить, назначив офицерам половинное жалование мирного времени, а ход роспуска армии несколько задержался силой финансовых обстоятельств: парламент не сумел погасить всю задолженность перед увольняемыми солдатами. Во всех классах гражданского населения поднялось буйство насилия, люди охотно и радостно обижали и травили любого регулярного солдата, офицера на половинном жаловании; в особенности глумились над отставниками - разоружёнными, уволенными, кто стали выброшены на улицу без средств к жизни. Дороги и просёлки закишели отчаявшимися и голодными грабителями совсем недавно они дрались с гвардией Франции, и проливали кровь за короля и страну. Вернулись дни Робин Гуда; остатки английской кавалерии занимались теперь не войной, а охотой на общественных изгоев - вчерашних товарищей по оружию. И над теми, кто попал в лапы правосудия, безжалостно вздымались виселица и кнут. Так выглядел в семнадцатом веке процесс демобилизации.
В палате общин появилась новая фигура во многом необычная для того времени, но наш современник найдёт её удобопонимаемой.[385] Роберт Харли: родился и вырос в пуританской семье, в среде вигов и диссентёров. Получил образование как адвокат, но ни разу в жизни не вышел к барьеру. Прошёл в парламент от Нового Радноршира в 1690 году и очень быстро стал искусником парламентских тактики и процедуры. Нам уверенно говорят, что он владел мастерством затягивания прений и запутывания вопросов; улавливал и использовал настроения толпы. По мере борьбы с королевским двором он, мало-помалу, сделался из вига тори, из диссентёра приверженцем Высокой церкви, и со временем возвысился до первого человека среди светских и духовных тори. К 1698 году он стал их фактическим лидером в палате общин. Он бы тем, кто возглавил безрассудное движение за сокращение военных сил. Он был тем, кто искал соперничества между Банком Англии и Земельным Банком[386]. Речи его доставляли полное удовольствие толпе, а сам он метил куда выше и мечтал об иной политической игре, на иной сцене, освещённой не в пример ярче залы в Вестминстере. Но даже возглавляя атаку, он ратовал за умеренность во мнениях. Он, радуя своими делами тори, поддерживал отношения с вигами. Он подавал двору знаки, намекая, что и самый опасный враг может, однажды, при должном случае, стать наилучшим другом.
За спиною Харли стоял Сеймур, неподражаемый пройдоха, притворщик, человек с фальшивым обаянием; он правил группой коммонеров западных графств с азартом ловчего на добычливой охоте. Сквайры-тори голосили о том, как кичливые и бесполезные хлыщи-офицеры пускают деньги на ветер; а виги вторили им, полагая регулярную армию природным врагом гражданских свобод. И король в ужасе умолк перед бурными партийными изъявлениями. Он болел сердцем за офицеров и солдат; за тех, кто дрался за него, кого он водил в долгие, безрадостные кампании. Каждый нерв его натуры восставал против беспричинного, жестокого, бесчестного обращения с этими людьми; в то же время, он понимал, насколько непрочным станет его положение в Европе с устранением Англии как военного фактора. Но он был бессилен. Затем стало решено, что в той горстке войск, какую, скрепя сердце, разрешил парламент, не должно остаться ни одного иностранца. Итак, голландской гвардии надлежало покинуть остров. И отборная, преданная королю бригада пошла маршем к морю. Король обратился к Общинам с последним увещеванием и был отвергнут несмотря на то, что послание коммонерам было написано собственной королевской рукой. И когда он, в речах, произносимых с трона, говорил об опасном положении страны, Общины жёстко пеняли министрам на то, что по их наущениям монарх адресуется к палате в неподобающих терминах.
Стоит ли удивляться, что этот несчастливый принц, получивший удар в час величайшего триумфа, стреноженный на полном скаку, в разгар самых благодетельных за своё царствование дел, попранный в собственном достоинстве и достоинстве солдата, боевого товарища стоит ли удивляться, что он пожелал уйти от такого народа. Вильгельм отстоял религию этих людей, сохранил в целости их государственные установления, поднял на высокую ступень славы, и получил в ответ неразумие и неблагодарность. Он решил оставить этот низкий, неуступчивый народ. Он собрался ответить на его неприязнь к чужеземцам жестом неподражаемого презрения. И когда Европа содрогнётся в новой конвульсии, эти островные игноранты пожнут, что посеяли. Но он был человек великих качеств, и сумел справиться с подступившими чувствами, одержав верх над самим собой - и это стало величайшей победой Вильгельма; победой, спасшей дело всей его жизни. И всё же, оборачиваясь на многие его промахи: бестактность; неверное поведение; несправедливости ранних дней правления; беззаконный фавор, расточённый на приближённых-голландцев; вспомнив о нечестном обращении с офицерами-англичанами; о дурном солмсовом обхождении с войсками Англии при Штеенкерке; приняв в рассуждение неразумную неприязнь Вильгельма к людям нового своего королевства; его желание принизить этих людей до положения пешек в континентальной игре всякий, рассудив, сумеет понять, что вина здесь лежит не на одной лишь стороне. Он оплатил страданием долги прошлых лет. Что до Англии, ей очень скоро придётся искупать проявленную неосмотрительность трудами и кровью.
Постепенное восхождение Мальборо, способ, что помог ему за шесть лет восстановить вес и влияние после совершенного отлучения от королевской милости и всех офисов, значатся среди самых интересных эпизодов долгой его жизни. Виги стояли за честь Шрусбери, тори строго блюли интересы Годольфина. Не то с Мальборо: он не принадлежал ни к одной партии, и в одиночку вынес всю тяжесть королевского неблаговоления. Он исправно исполнял должные дела в палате лордов. Он примирился с якобитами и оставался с ними в ровных отношениях, если не считать стыдного дела Фенвика. Он по-прежнему был доверенным другом принцессы Анны. В остальном, Мальборо жил в спокойном изгнании; лучшие годы его жизни уходили впустую, большие военные возможности проходили мимо, но он оставался безмятежен по крайней мере, с виду. Он, в полнейшей невозмутимости, проводил счастливые дни с Сарой и детьми. Он почти не писал писем, разве что Саре, когда им случалось разлучиться, или по оставшимся у него общественным делам. У нас почти нет письменных материалов этих лет записей о жизни Мальборо, его публичных занятиях. Тем не менее, судьба его шла в гору; затмение было долгим, но закончилось, и все, кто стоял у вершины власти, распознали в нём величайшего англичанина-современника.
Вильгельм не торопился в улаживании отношений с Мальборо. Он вернул опального графа ко двору в 1694 году, после смерти королевы Марии, но не дал Мальборо никакой должности. И всё же, в конечном счёте, стена, вставшая между ними, дала трещины и рассыпалась. Старшему сыну Анны, герцогу Глостерскому, исполнилось девять лет. Настала пора приставить к будущему наследнику короны гувернёра, воспитателя, человека с положением и влиянием. Парламент, вотируя королю цивильный лист в 700 000 фунтов, заранее позаботился о таком расходе. Прежде всего, Вильгельм подумал о Шрусбери: тот по-прежнему влачил деревенскую жизнь, осаждая короля постоянными прошениями об отставке. Шрусбери, как знает читатель, неоднократно отстаивал перед королём интересы Мальборо. Теперь он отклонил предложение в пользу своего друга Мальборо, считая последнего бесспорным выбором. Родители молодого принца не могли пожелать лучшего. Но король сомневался, а движение среди торийской оппозиции выдвинуло вперёд имя Рочестера. Кажется, что Сандерленд употребил своё, всё еще весомое влияние в пользу Мальборо.
Возможно, впрочем, что главную роль в этой истории сыграл новый сподвижник графа. За несколько лет до описываемых событий, Вильгельм сердечно привязался к молодому голландскому придворному по имени Кеппель. Король быстро продвинул его из пажей до самых высот государственного положения. Он возродил для Кеппеля герцогство Альбемарльское. Близость между ними была честная, но нежная и необычная. Одинокий, бездетный монарх обращался с Кеппелем как с любимым сыном-приёмышем. Прежний сердечный друг короля, Портланд, давно враждовал с Мальборо. Возможно, он не забыл, как Джон прозвал его деревянной куклой. Но Портланд был теперь при посольстве в Париже, и его место в королевском сердце занял Кеппель. Между двумя голландцами затеялось жаркое соперничество. Впрочем, Портланд вскорости стал выкинут со всех постов под смехотворным предлогом. Пока соперник оставался заграницей, Кеппель поселился в Ньюмаркете, в тех комнатах рядом с королевскими апартаментами, что долгое время занимал Портланд, и Вильгельм не воспротивился. Портланд соперничал с Кеппелем, и этого стало достаточно, чтобы новый наперсник Вильгельма сдружился с Мальборо. А затем ловкое и тактичное посредничество молодого королевского советника расчистило путь там, где долго и никак не помогали ни заслуги нашего героя, ни политические необходимости времени.
Летом 1698 года Вильгельм пригласил Мальборо в воспитатели юного принца. Когда Черчилль пришёл к руке короля, принимая назначение, Вильгельм наставил его любезными и проницательными словами: Мой лорд, учите его, но помните [где вы] и к чему стремитесь; тогда племянник мой получит безупречное воспитание.[387] Одновременно король вернул Мальборо прежнее военное звание и место в Тайном совете. Вильгельм объявил о своём решении 16 июня 1698 года, в Газетт, в примечательных словах:
По желанию его величества, высокородный граф Мальборо назначен воспитателем его высочества герцога Глостерского; выбор этот выражает доброе мнение его величества о его лордстве, кто выказал преданность на королевской службе и по своим умениям вполне готов к исполнению великой обязанности
Миниатюрный двор герцога Глостерского стал составлен и набран в большой спешке за летние месяцы 1698 года.[388] У родителей наследника и Мальборо нашлись собственные соображения о составе этого двора. Король ознакомился с их замыслами накануне отплытия в Гаагу, опешил от вопиющей недвусмысленности плана, и раздражённо воскликнул: Принцесса Анна пока ещё не королева пусть обождёт! Мальборо не стал возражать. Он стремился к одному лишь королевскому благоволению, и неразлучный с хозяином Кеппель пообещал устроить дело должным образом. В конце концов, монарх утвердил дворцовые ведомости принца без серьёзных корректив. Вильгельм выбрал духовным наставником наследника епископа Бёрнета; помимо основного занятия, тот должен был учить принца истории, политике и малым искусствам. Гувернёр-тори уравновешивался наставником-вигом. Возможно, Вильгельм нашёл оказию, чтобы отослать от себя Бёрнета, этого надоевшего ему епископа-балаболку. Но Мальборо и Бёрнет тесно сдружились. Епископ не устоял перед обаянием и манерами нового начальника. Он совершенно подпал под влияние Мальборо и даже переписал некоторые пассажи своего исторического труда, где шёл рассказ о дезертирстве Черчилля от Иакова. Он, впрочем, непредусмотрительно запамятовал уничтожить оригинальную версию, что открылось, и дало пищу для посмертных острот в адрес епископа. Лорд Черчилль, единственный выживший сын Мальборо, мальчик двенадцати лет стал шталмейстером и, надо полагать, старшим товарищем принца по играм. Бёрнетова сына назначили пажом, а некоторая женщина Хилл из обнищавшей дворянской семьи получила в заведование придворную прачечную. Имя Хилл не осталось скоротечной исторической тенью и имеет особое значение. В 1689 году, вскоре после революции, Сара обнаружила, что имеет бедную родню. В своё время дед её, сэр Джон Дженнингс, стал отцом - по меньшей мере двадцати двух детей. Поместье его, хотя и крупное, не могло выдержать такого раздробления. Одна из дочерей сэра Джона, получившая едва ли и 500 фунтов приданного, вышла замуж за торговца, кто вёл дела с Левантом. Торговца звали Хилл. Несколько лет дела его процветали, но потом Хилл совершенно разорился, пустившись в спекуляции, в суетливое прожектёрство по словам Сары. Но всё это случилось задолго до моего рождения - Сара пишет с отчётливой злобой, тем более пикантной оттого, что нижеприведенный пассаж касается лиц, ещё живших в то время:
Я и знать не знала обо всех этих людях, до времени, когда королева Анна вышла замуж и стала жить в Кокпите; тогда ко мне пришла одна знакомая и сказала, что я, должно быть, не знаю, что имею родственников, кои пребывают в нужде, и принялась рассказывать мне об обстоятельствах этих родственников. Когда она закончила, я ответила, что, в самом деле, никогда не слышала ни о ком из этих людей, немедленно открыла собственный кошелёк, и передала десять гиней на немедленные их нужды, сказав, что непременно сделаю для них всё, что смогу. Затем я послала миссис Хилл больше денег, и увиделась с нею. Она объяснила мне, что муж её состоит в том же родстве с Харли, что она ко мне,[389] но Харли никогда и ничем ей не помог.[390]
Мистер и миссис Хилл умерли, оставив четырёх детей двух мальчиков и двух девочек.
Старшая дочь [Абигайль] успела стать из подростка женщиной. Я взяла её в Сент-Олбанс и она жила там вместе со мной и моими детьми; я обходилась с нею очень нежно, как если бы она была мне сестрою Что до младшей дочери (она жива и по сей день): когда налаживался двор герцога Глостерского, я обратилась к моему лорду Мальборо, и тот по моей просьбе назначил её заведовать прачечной, что было хорошим в её обстоятельствах положением. И когда герцог Глостерский умер, я выхлопотала ей годовой пенсион в 200 фунтов, и платила эти деньги из личных королевских сумм Королева с готовностью разрешила такую [ежегодную] трату; очень возможно, что миссис Хилл и теперь пользуется этим доходом; может быть, как единственным заработком, если, конечно, она не успела накопить каких-то денег, став и послужив распорядительницей личных королевских сумм по протекции старшей сестры та назначила её сразу же, едва заменив меня при королеве.
Чтобы устроить старшего сына я обратилась к моему лорду Годольфину, и тот назначил Хилла в таможню; затем, чтобы продвинуть его по службе, понадобилось дать залог, поруку хорошего его поведения; тогда я добилась заявления герцога Мальборо, что он ручается за того двумя тысячами фунтов.
Младший брат (собутыльники звали его честный Джек Хилл) был дюжий парень; я приодела его (он пришёл в обносках) и устроила в Сент-Олбанскую школу Он выучился там, чему сумел, а когда у принца Датского открылась вакансия эскортного пажа, его высочество взял парня из добрых ко мне чувств. Потом я попросила лорда Мальборо устроить его камердинером к герцогу Глостерскому. А мой лорд ответил, что Джек Хилл ни на что не годен, но всё же обещал и взял его своим адъютантом, а потом дал ему полк. Но это сестра Хилла постаралась, чтобы его произвели в генералы, и поставили командовать приснопамятной экспедицией в Квебек; я не искала для него такой чести. Чтобы закончить с этим субъектом когда мистер Харли решил, что ему будет выгодна парламентская атака на герцога Мальборо, этот квебекский генерал, этот честный Джек Хилл, этот прежний оборванец, одетый некогда мною, лежал в болезни, но откликнулся на зов сестры, встал, оделся богатое платье я-то дала ему одежду поскромнее и пошёл в Палату, вотировать против герцога.
Вот вам краткий рассказ об Абигайль Хилл, кто, по прошествии лет, стала миссис Мешем, конфиденткой Харли и спасла Францию от уничтожения столь же определённо, хотя и не с таким почётом как некогда Жанна дАрк. Это воспоминание особенно терзало Сару под конец её долгой жизни: так вышло, что она дала волю самым добрым чувствам родственной привязанности, и тем подготовила и собственную опалу и падение супруга в момент, когда до завершения всех его побед и трудов было рукой подать. В жизни сильной, деспотической, неугомонной Сары случались всякие дела и поступки, хорошие и плохие, но обращение её с Хиллами отмечено особой благожелательностью. Несомненно, в течение долгих лет она оставалась их святой заступницей. Безотносительно к кумовству, её добросердечие к Хиллам сияет добродетелью. И стало одной из достоверно прослеживаемых причин её крушения.
Вообразите: Мальборо торит свой путь осторожной поступью, с провидческой оглядкой, сквозь все интриги и опасности времени, а в то же самое время преданная ему жена, влекомая лучшими за всю её жизнь чувствами, безотчётно приводит в действие цепь событий, что настигнут нашего героя посередь славных торжеств, и обрушат в прах.
И с беззаботным юношей сам-друг
Растет и крепнет пагубный недуг[391]
История иной жизни куда занимательнее любого романа.
Время шло; в семействе Мальборо подрастали дети; две старшие дочери вышли замуж в 1698 и 1699 годах. Старшая, Генриетта, пошла за Френсиса, сына лорда Годольфина. Долгая, на всю жизнь дружба Мальборо и Годольфина факт исторического значения, но в браке этом не было ни политики, ни светского расчёта. Очень молодые люди - двадцатилетний Френсис и восемнадцатилетняя Генриетта росли в семьях, знакомых накоротке: они часто виделись и полюбили друг друга к живейшей радости родителей. Жена Годольфина умерла в прошлом десятилетии, дав жизнь Френсису. Лорд-казначей слишком чтил её память, чтобы жениться вторично. Жизнь его проходила за работой, в спортивных увлечениях, в заботе о единственном ребёнке очаровательном юноше хрупкого здоровья. Годольфин руководил государственными финансами тридцать с лишком лет, при четырёх царствованиях и остался человеком неколебимой честности в том, что касалось казённых денег, хотя служба его пришлась на времена коррумпированных нравов, когда государственная должность была чуть ли ни единственной дорогой к богатству. После его смерти в 1712 году наследникам остались едва ли 14 000 фунтов немногим меньше, чем за сорок лет до того досталось в наследство самому Годольфину. И, говоря о о свадьбе, он выделил сыну самое ничтожное обеспечение. Но баснословная скупость Джона и Сары имела свойство утихомириваться в нужный момент: так было, когда они, сами безденежные, связали себя словом; так стало и теперь. Конечно, тяга Мальборо к барышу притча во языцех, но, видимо, качество это не сильно помогло ему: в свои сорок пять он оставался беднейшим среди равных по положению. И всё же он дал за дочерью 5 000 приданого. Принцесса Анна, обрадованная и свадьбой и прочащимся внутренним единством своего кружка, пожелала передать молодым 10 000. Но Мальборо руководствуясь какими-то низкими соображениями, да не усомнится в том читатель! принял лишь 5 000. Свадьбу справили 24 марта 1698 года.
Невеста очаровательной наружности получила и хорошее воспитание. Тогдашние стихотворцы хвалили её грации в стихах. Брак стал прочным.
Замужество второй дочери Мальборо, Анны, в январе 1700 года заслуживает особого внимания. Мы видели, как долго и как по-разному шли отношения Мальборо с Сандерлендом, пока между ними не установилось крепкое политическое сотрудничество. А их жёны стали близкими подругами. Анна живо ревновала к этой близости, судя по дошедшему до нас письму принцесса пишет Саре:
Сегодня леди Сандерленд увидит вас прежде меня, и я не могу ей не завидовать; она, в чём я уверена, не любит вас и вполовину моей любви, хотя и отличается изрядным краснобайством.
Наследник Сандерленда, вдовый лорд Спенсер, был личностью примечательной. Он не унаследовал вкрадчивого обаяния и весёлой любезности своего несравненного отца. Он был ультра-виг, самый твердолобый, самых узких взглядов. Он не трудился скрывать своего республиканизма. Главным предметом его забот были права собственного социального слоя и парламента он ревновал их к короне до такой степени, что не питал никакого пиетета к прочему народонаселению страны. По его философии, граждане самой плохой республики были людьми свободными, а подданные наилучшего короля одними рабами. Заядлый книголюб, он оставил о себе память многим поколениям библиотеку Сандерленда. Партия вигов весьма надеялась на расширение его умственного горизонта. Соратники полагали, что если жизненный опыт несколько ослабит путы жестокой ортодоксии Спенсера, они найдут в нём первого бойца за то дело, ради которого Хемпден умер в бою, а Сидни на эшафоте.
Возможно, что Сара, непреклонная сторонница вигов, лелеяла ту же надежду, но Мальборо, с его умеренным торизмом, отрицал крайности вроде спенсеровых доктрины и намерений. Анна была любимой его дочерью; девушкой, по любому счёту замечательной и прелестной. Мальборо тесно сотрудничал с Сандерлендом в деликатных государственных делах; они были нужны друг другу в разнообразных, немалых и обоюдных услугах; Спенсер со временем наследовал огромное отцово состояние; но Мальборо, тем не менее, колебался, не желая мешать эту своенравную кровь с собственной, или соглашаться на брак, что не устроит дочерниного счастья. Уговорить его стало непросто. Он отступал постепенно, поддаваясь настояниям Сары, уверяясь в искренности лорда Спенсера и, наконец, дал согласие. И снова принцесса Анна, крёстная невесты, передала семье приданое, одарив невесту 5 000 фунтами. Сандерленд, кто, по всей видимости, был страстным сторонником этого брака, написал примечательное письмо:
Теперь он так хорошо устроен, что мне нечего больше желать на этом свете разве что почить с миром буде на то милость божья. Но должен добавить, что, сумев обрести такое счастье, он станет подчиняться моему лорду Мальборо во всех делах, приватных и общественных. Я особо поговорил с ним об этом, и сын мой осознал все для себя выгоды такого поведения. Уверен, мне нет нужды просить, чтобы предмет этот остался втайне от всякого, кроме леди Мальборо.[392]
Ожидания Сандерленда не сбылись и после его смерти характер и поведение Спенсера стали причиной серьёзного политического затруднения. Но именно этот брак дал роду Мальборо продолжение и его титул с владениями отошли потомкам, найдя наследника: доживший, единственный к тому времени сын Джона, лорд Черчилль, шталмейстер при дворе герцога Глостерского прожил затем недолго: почти так же коротко, как и его хозяин, маленький принц.
С наступлением мирного времени, многие великосветские англичане стали навещать Париж и, часто и открыто, встречаться там с людьми якобитского двора. Следуя бумагам Нэрна, Мальборо по-прежнему говорил якобитским агентам о своей приверженности делу реставрации Иакова II[393] желание невероятное по существу; желание, категорически противоречащее его интересам. Но если оставить в стороне декларации, сношения его с якобитским двором в те дни выглядят делом обыкновенным и естественным. Герцогиня Тирконельская, некогда блистательная Френсис, получила после смерти мужа в 1693 году маленький пенсион от французского правительства, и проводила дни во Франции и Фландрии. Но сердце её осталось в родных краях. Мы обнаруживаем, что Мальборо, используя своё влияние на английских министров, хлопочет для неё о разрешении на возвращение в Англию. Джеймс Бриджес, сын лорда Чандоса, впоследствии Главный казначей вооружённых сил, отмечает в своём дневнике за май 1701 года: Ко мне приходили лорд и леди Мальборо, оставив прошение леди Тирконель.[394] Кажется, они не добились тогда успеха: герцогиня обрела дом в Дублине лишь в 1707 - 1708 году; основала там женский монастырь для неимущих жительниц графства Клер и дожила почти до девяностолетнего возраста.
Вот письмо от Сары к одному из её дядюшек: мы видим здесь маленькую интригу; видим и то, что отношение дам к таможенным правилам едва ли изменилось с того времени:
Я отослала вам тридцать три пары перчаток и хотела бы, чтобы вы передали их тому джентльмену, кто, по вашим словам, собрался во Францию. Он может вывозить их, не таясь: у него не будет затруднений с нашей таможней; но дела такого рода запрещены во Франции, так что я опасаюсь за перчатки, и не могу послать их, как шлют всякие другие вещи, купленные в нашей стране, но, думаю, они не будут чрезмерно придирчивы к джентльмену, едущему с такой посылкой и не станут препятствовать ему. Перчатки надо отдать мадам Дюмен, никак не упоминая имени моей сестры, и если это не составит для вас труда лучше не называть джентльмену и моего имени, при передаче посылки; полагаю, вы достаточно хорошо с ним знакомы, чтобы просить о таком одолжении, но если он не захочет, прошу вас любезно отослать перчатки назад, моему привратнику в Сент-Джеймсе, и я попытаюсь найти иную возможность для отправки.
Теперь, когда лёд неприязни раскрошился и растаял, король, осаждаемый многими бедами, искал опору в Мальборо - в его хладнокровии, практичности, умении приноравливаться; в его находчивости между трудностями, спокойствии среди опасностей. В июле 1698 года, когда король собрался отъехать в Голландию стране потребовался Регентский совет и Мальборо стал одним из девяти Судебных лордов-уполномоченных с прерогативой королевской власти. С этого времени Вильгельм всё более полагался на него, пусть и без личной приязни; король повернулся к тому, чью помощь отверг в кризисные годы своего царствования. Он обратился к услугам солдата в дни мира, после того, как пренебрёг его службой на войне; а Мальборо, чьим первым делом было дело военное, кто с юности выбрал солдатскую профессию, оказался политиком последних лет правления Вильгельма политиком сообразительным и сильным.
Новые отношения Вильгельма и Мальборо требуют пристального изучения. Король, судя по всему, быстро проникся к нему доверием и взял в привычку решать с графом важнейшие дела. Мы располагаем письмом Соммерса от 29 декабря 1698 года, где удостоверяется, что после удаления голландской гвардии, удручённый и гневный Вильгельм открыл Мальборо хотя тот не был членом Кабинета тайное, сокрытое от некоторых министров решение об отречении. Он говорил об этом поразительном намерении с милордом Мальборо (что поразительно само по себе), с мистером Монтегю, милордом Орфордом, и, я уверен, со всякими другими.[395]
У нас нет записей о том, что посоветовал тогда Мальборо, но я почти не сомневаюсь, что он убедил короля оставить этот замысел. В сложившихся обстоятельствах, отречение Вильгельма вполне могло привести страну к республике вместо престолонаследования Анной. В те дни ещё не существовало Акта о Престолонаследовании и парламент, выказывавший тогда бурный нрав и живейшую подозрительность, не стал бы менять прямое правление Вильгельма на закулисное правление Мальборо. Последний мог стяжать власть в желательном для него виде лишь при естественном наследовании с законной передачей короны. Должно быть, Мальборо присоветовал королю терпеть искусство, не раз выручавшее самого графа. В те дни, Мальборо стал лучшим после Вильгельма знатоком европейских дел.
Оба одинаково видели обстановку на этом сложном театре. Оба одинаково оценивали важности, значения каждого из многочисленных факторов. Оба видели способ обуздания Франции в европейской коалиции движимой и возглавленной Морскими державами. Мальборо считал разоружение Англии делом поспешным и опасным то же и король, хотя сам Мальборо и не был связан с распускаемыми полками, третируемой голландской гвардией, гонимыми гугенотскими офицерами личным, персональным товариществом, что делало эту процедуру столь горькой для его господина. Наконец, оба отстранённо и с большой неприязнью умели видеть сокрытые под покровом политики яростные страсти и заблуждения английских партий; оба привыкли использовать их к своей пользе, а собственные их выгоды шли об руку с важнейшими необходимостями века. Два следующих года Вильгельм опирался на Мальборо, не вполне доверяя ему. И Мальборо, став королевской опорой, отчётливо понимал свой случай и нёс этот вес вполсилы. Он не вполне передался королю. Вильгельм доверял ему наполовину, а второй половиной королевского доверия была нужда в помощи. И Мальборо стремился сохранить независимость, бережно заботясь о собственных властных ресурсах.
Лорд Уолсли не умеет понять поведения Мальборо в последние годы Вильгельма III. Он раздосадован как может его герой занятый королевскими поручениями по многим и важным делам, в канун подступающей войны голосовать заодно с ториями, принимая их сторону по всем ключевым пунктам яростных партийных разногласий? По его пристрастному мнению, Мальборо должен был уйти от узости политических единений и стать наособицу, рядом с Вильгельмом, прокламируя подступающую опасность, настаивая на единении всех англичан. Он называет курс Мальборо непостижимым, объяснимым разве что партийной приверженностью, и неоправданным для человека, кто так хорошо разбирался в европейских делах. Но мы можем легко дать объяснение силам, что тогда двигали Мальборо; силам, что пускал в ход сам Мальборо.
Когда бы Мальборо отринул торийскую партию, и, пустившись по течению, остался бы всего лишь сторонником двора, он скоро потерял бы всякую способность влиять на события. И если король решил бы отринуть его, не находя больше пользы в Мальборо, последний мог рассчитывать только на собственные, персональные способности. Вильгельм знал Англию почти так же хорошо, как Европу, но презирал, считая постыдной, английскую партийную борьбу; теперь недооценка партийного фактора стала важной причиной королевского затруднения. Он оказался в замешательстве, и повернулся от министров-вигов, кто не умели ни управлять, ни бороться с палатой общин к буйным ториям, но нашёл в них полное пренебрежение делами окружающего мира, и упорное, неверное, противоречащее интересам короля воззрение на национальный интерес Англии. Виги, разобравшись в происходящем, пришли на помощь королю. А Мальборо, понимавший национальный интерес так же хорошо, как и свой собственный, знал, что виги, зажатые тисками торийской оппозиции, никогда не смогут провести Англию через грядущие испытания; он понимал, что тори, вне всяких сомнений, сильнейшая партия в государстве. Он не разделял торийских заблуждений, разве что общие принципы, но знал их силу, так что доверие, с которым относились к нему тори, было основой его независимой государственной позиции. Он, с Рочестером и Годольфиным, стоял между королём и торийским парламентом. Из этих троих он один разделял европейские взгляды Вильгельма, но влияние его на Рочестера было весомым, а на Годольфина всецелым. Все трое придерживались партийной линии, и голосовали в партийном списке настолько, насколько желали отметиться в приверженности торизму. И в то же время, побуждаемые Мальборо, они старались подтянуть свою партию к королевскому видению национального интереса, а короля к дальнейшей смычке с ториями, включая их самих. Мальборо водил тесную дружбу с Харли, а через него с Общинами. Сам он пользовался большим влиянием в Лордах. Контакты с вигами шли через Сандерленда зятя после свадьбы дочери и через Сару. И он, непременно, оставался человеком Анны, возглавляя и одушевляя её кружок, защищая интересы принцессы и с ними собственную будущность.
Половинчатые отношения с Мальборо стали промахом короля, неудачей его царствования. В 1689 и 1690 годах, Вильгельм, глава двух королевств, дипломатический правитель всей Европы, мог когда не упустил бы случая не третировать Мальборо, но выпустить этого заслуженного воина на поле брани и обрести в нём талисман победы, без которого все кропотливые и ловкие комбинации, все доблестные усилия короля привели лишь к посредственному результату. Он мог бы нивелировать разницу в положениях отношениями боевого товарищества, свободного от сомнений и ревности, неколебимого в тягчайших испытаниях войной или фортуной того товарищества, что через несколько времени зажжётся между Мальборо и Евгением.
Независимость Мальборо от двора дала себя знать в двух пертурбациях внутренней политики. В 1689 году, король, несомненно с помощью Мальборо, убедил принца Георга Датского поспособствовать миру между Данией и Швецией отступившись от своих маленьких наследственных земель в Дании под ручательство о выплате 85 000 фунтов. Общая война закончилась, пришло время уплатить по ручательству. Король, доселе плативший Георгу 6 процентов от основной суммы, не желал выносить эту сделку на обсуждение парламентом. Он понимал, что в Общинах поднимется буря; что коммонеры разразятся в крике о тотальной экономии. Но принц настаивал на своём неоспоримом праве. Деньги стали вотированы лишь после крайне неприятных дебатов и Мальборо употребил всё своё влияние на то, чтобы поставить вопрос в повестку и затем чтобы удовлетворить притязание Георга. Вот ещё одно свидетельство столь же недвусмысленное, как спор восьмилетней давности о гранте для принцессы Анны свидетельство того, что Мальборо, принужденный к выбору, не затруднялся в отстаивании интересов старых своих друзей перед королём.
Второй случай касается более значимого дела. В конце ирландской войны, огромные наделы мятежников стали конфискованы короной. Затем царствующий Вильгельм приобрёл привычку нарезать из этих земель награды своим голландцам, гугенотским генералам, товарищам. Бентинк, Гинкель, Рувиньи, Зулестайн стали вельможами, получили огромные поместья. Но король пошёл дальше. Он стал одаривать ирландскими наделами фаворитов, таких как молодой Кеппель; таких, как его любовница, Элизабет Вильерс. Было подсчитано или что вернее говорили о том, что после возврата большей части наделов прощённым мятежникам, в руках частных лиц осталось на полтора миллиона казённых земель.
Король заявлял о своих правах в терминах, взятых из времён Плантагенетов. Общины настоятельно говорили о военных расходах, о государственном долге, о губительных налогах. Они, от имени нации, требовали возврата всех ирландских земельных пожалований, в особенности доставшихся иностранцам. Общины не могли завершить роспуск армии из-за нехватки денег для выплат солдатам и увидели источник средств в отъятых королевских щедротах. Они хотели добиться отвратительной для Вильгельма цели ещё более неугодным для короля средством: они решили обратить в деньги аннулированные подарки короля и пустить эти деньги на то, чтобы отнять у того же короля армию. Исход конфликта между решительной, познавшей свою растущую силу палатой общин и обескураженными, павшими духом министрами Вильгельма не вызывал сомнений: в сложившейся ситуации так стало решено - Лордам не стоило настаивать на королевской прерогативе. Сандерленд, кто остался активным посредником, действующим из-за кулис, посоветовал покориться. Права на владение землями, пожалованные королём, были аннулированы, а сами земли отобраны у новых владельцев.
Спор этот обернулся для Мальборо самыми прискорбными затруднениями. Он успел наладить почётные и достойные отношения с королём. Он получил весомое влияние в обеих палатах. Казалось, он, военный человек, постепенно становится человеком политической карьеры. Повсюду говорили о его скором назначении на министерский пост. В феврале 1699 года Вернон писал Шрусбери:
Сэр Джон Форбс рассказал мне об обсуждаемой теперь рокировке: лорд Мальборо станет лордом-камергером, а вы воспитателем принца Глостерского [Шрусбери успел к тому времени стать лордом-камергером], но я не слышал ничего подобного от других; я, впрочем, часто наблюдаю лорда Мальборо вместе с королём и они, верю, довольны друг другом.[396]
Ничего из этого не сбылось, но посты Мальборо воспитатель герцога Глостерского, член Регентского совета подняли его на высокий уровень при дворе и в правительстве. Он, почти наверняка, мог бы получить офис министра и непременно отверг бы такое предложение. Он пишет в письме к Шрусбери от 3 июня 1699 года: Согласитесь, обстоятельства нынешнего царствования с распространившейся до крайности завистливостью, мало поощряют к вмешательству в какие либо дела.[397]
Билль о возврате ирландских земель вовлёк его в новый антагонизм с королём. Его сестра, Арабелла, получила выгоду при раздаче наделов, но самому Мальборо никогда не нравились таковые королевские щедроты, и мнение его, несомненно, не осталось без внимания. Итак, он пошёл в бой в рядах торийской партии. Мы не знаем, как далеко он зашёл, но один дошедший до нас проблеск высвечивает открытую борьбу короля и Мальборо. Оппонирование билля в Общинах стало ответственностью лорда хранителя печати, Лонсдейла; 5 апреля 1700 года Вильгельм писал Бентинку:
У нас великое затруднение: я только что узнал от доктора Радклифа, что за ним послал мой лорд хранитель печати, жалуясь на тяжёлое заболевание. Боюсь, он болен мрачной хандрой [!]. И если вы сможете увидеть его прежде, чем пойдёте в Палату, дайте ему ободрение, побудив твёрдо продолжать так хорошо начатое им же дело. Я пробовал сделать это вчера, но милорд Мальборо, кто ходит за ним по пятам, определённо запугал его. По моему мнению, всё будет потеряно, если билль не провалится в вашей Палате.[398]
Несчастный лорд хранитель печати умер от болезни в том же году.
Курс, принятый Мальборо, навлёк на него неодобрение с двух сторон. Чувства короля пишет архидиакон Кокс стали чрезвычайно уязвлены теми, кто старался в пользу отвратительного ему билля; а победоносная партия шельмовала, называя предателями отечества, тех, кто старались не в полную силу.[399] В январе 1700 года Вернон пишет Шрусбери: Думаю, тучи, сгустившиеся над милордом Мальборо [речь идёт о выплате принцу Датскому] теперь разошлись. Но новый спор снова заволок небо. В мае Мальборо пишет Шрусбери:
Король по-прежнему холоден со мной, так что буду рад получить от вас дружеский совет; теперь друзья и знакомые неуместно ко мне ревнивы, а король зол, так что не знаю, как мне удастся это перенести; не знаю и как вести себя в таком положении.[400]
С другой стороны, он поддерживал короля в попытках предотвратить неразумное сокращение армии; и, на деле, вёл в этом направлении палату лордов. В общем, его отношения с королём удержались на таком уровне, что Вильгельм, отбывая в Голландию, решил переназначить Мальборо в Регентский совет.
Верно то, что торийская партия при всей её зашоренности и буйствах стала выразительницей нации, стремящейся к миру, экономии, устранению злоупотреблений. И витиеватые переплетения английской политической структуры дали о себе знать теперь, когда закончилась война. Тори, боготворившие монархию, приняли чужеземного короля, дабы помыкать им. Виги обожали импортированного суверена за то, что тот не мог твёрдо настаивать на своей прерогативе. И как бы жёстко не сражались партии, тори всегда полагались на значимую для них поддержку вигов, когда и если трения с королём и королевской администрацией перерастали в вопрос конституционного значения. Война удерживала в узде эти силы. Но они высвободились и за три послевоенных года привели короля к плачевной беспомощности. Палата общин действовала с безграничной самодостаточностью. Коммонеры, прозорливые и сведущие во всём, что касалось внутренних дел страны, игнорировали и пренебрегали мировыми проблемами, понимая их самым поверхностным образом. И пусть большинство населения поддерживало монархический принцип правления, Англия со времён Кромвеля никогда не была более республикой. Партийные лидеры говорит Ранке чувствовали себя сильнее короля. Королевская власть так писал в 1701 году французский агент столь беспомощна, что к Англии стоит относиться как к республике, считая английского короля чиновником, обязанным проводить решения парламента в межсессионные периоды.[401]
Страна очень долго шла к таким, громко заявившим теперь о себе условиям управления. Более двухсот лет назад суверену отказали в удовлетворении естественного желания отстраниться от партий и править посредством лучших по его выбору людей. Партийная система вошла в долгий период преобладания. Всепокоряющие победы Мальборо при королеве Анне, знаменитая администрация Питта Старшего, действия в крайних обстоятельствах двадцатого века на время уводили страну от этого обыкновения; но в целом, девяносто процентов исторического времени прошли для трона в подчинении, в сосуществовании с чередующимися, взаимодействующими и противоборствующими политическими объединениями, что боролись за офисы с заявлениями об особой своей лояльности, со всякими доктринами на знамёнах, с настаиваниями на своих законных интересах. Поразительно, но такая система, помимо частностей, оказалась весьма удобоприменимой.
Вмешалось трагическое событие. Маленькому герцогу Глостерскому шёл одиннадцатый год. Мы можем составить о нём некоторое представление воспользовавшись трактатом, написанным современником, одним из служителей принца, Дженкином Льюисом.[402] Во младенчестве, герцог страдал от водянки мозга, и с ним неотступно находились два прислужника. Матушка прилагала всевозможные усилия для поправки его здоровья, обращаясь к докторам, меняя обстановку; отец бил его, полагая, что ребёнок станет нормальным от порки. Судя по всему, битьё оказало благотворное воздействие: в скором времени, ребёнку стали выговаривать за употребление бранных слов. Мальчик превыше всего любил забавляться игрушечными пушками, корабликами, солдатиками. Затем он собрал из товарищей по играм армию и стал разыгрывать войны и баталии. И одним из выдающихся военачальников этого войска был сын Мальборо.
Пишет Льюис:
Каждой ночью подавали сигналы, назначали пароль, отряжали в патруль, как это принято в гарнизонах; патруль, временами, становился отличным развлечением. Мой лорд Черчилль, храбрый юноша двумя-тремя годами старше герцога получил звание генерал-лейтенанта. Однажды миссис Аткинсон [одна из воспитательниц] пригласила в свои покои на обед леди Хериот и леди Анну Черчилль; гости остались на весь день. С леди пришёл и лорд Черчилль. Миссис Ванли [другая воспитательница?] спросила его лордство, пойдёт ли он с герцогом? И тот энергично ответил Да, непременно! - А что если вас убьют? - спросила она. Я о том не волнуюсь - герцог услышал ответ и пришёл в отличное расположение духа. Мой лорд восхищался шотландской саблей герцога, и герцог с охотой подарил саблю его лордству, хотя и сам очень любил её, сказав, что закажет себе другую. Леди Анна Черчилль, прелестнейшее создание из всех, кого мне довелось знать, принесла красивую коробочку с ложкой, вилкой и ножом; прибор понравился герцогу и он спросил о его цене. Анна скромно ответила, что не знает, что это выигрыш в лотерее, но просит, если герцогу нравится прибор, принять его в подарок. Герцог поблагодарил её, сказав, что с удовольствием примет подарок, если леди позволит отдарить её чем-то в ответ; что он и сделал впоследствии.
Вильгельм, пренебрёг своей отталкивающей нелюдимостью ради этого ребёнка, постоянно виделся с ним, баловал его. Во время процесса Фенвика, Глостер, тогда семилетний, велел одному из солдат своего потешного войска написать королю адрес и подписался под ним: Я, ваше королевское величество, преданнейший из ваших подданных, первым из всех готов отдать за вас жизнь, и верю, что через недолгое время вы покорите Францию. А ребячья армия и двор маленького принца добавили: Мы, подданные вашего величества, станем биться за вас до последней капли крови. В тот же год он поехал с матерью в Тонбридж, изучать фортификацию под присмотром духовного наставника. Мы охотно предположим, что при таких наклонностях молодой Глостер был счастлив иметь в гувернёрах видного военного человека. Возможно, впрочем, что Мальборо не поощрял в воспитаннике скороспелого милитаризма, но более заботился об его манерах, основательности и, прежде прочего, разумном обращении с фунтами, шиллингами и пенсами.
Англичане обратили к молодому наследнику сердца, а Европа взоры. Виги, глядя на его забавы, надеялись получить суверена, кто станет отважным вождём в борьбе с Францией. Тори, в свою очередь, со смаком повторяли некоторые приписываемые мальчику невежливые слова, коими он непочтительно прерывал конституционные разглагольствования Бёрнета. Принц-воин, английский принц, принц с парламентскими принципами в крови и с необходимым парламентским образованием прекрасный соперник любого претендента из грелки, пусть и в ореоле Божественного права!
Надежды эти развеялись; английскому народу пришлось решать свою судьбу на иных путях. 30 июля 1700 года герцог Глостерский умер от оспы так скоропостижно, что гувернёр узнал о случившемся, когда его воспитанник испустил уже последний вздох. Черчилль, товарищ принца по играм, пережил наследника на три года, а потом умер от той же фатальной хвори. Вильгельм написал Мальборо сердечное письмо из Лоо, выразив скорбь по скоропостижно умершему юному герцогу. Он добавил, что Это великая потеря, как для меня, так и для всей Англии, и сердце моё обливается кровью. И он распустил двор принца с такой поспешностью, что Сара столкнулась с огромными трудностями в истребовании месячного жалования прислужникам из личной казны монарха.
Брешь в престолонаследии открыла путь для новых политических расчётов с дальним прицелом. Здоровье Анны, подорванное постоянными выкидышами и мёртворождёнными, внушало опасения. Дни Вильгельма с очевидностью шли к концу. Корона Англии опять пустилась по воле волн тёмного, бурлящего океана, а с ней уже не одни, пусть и владеющие умами вопросы веры и конституции, но роль Британских островов в грядущей судьбе Европы. Появилось множество альтернатив, все с весомыми недостатками. Никто не жаждал возвращения Иакова II, но многие задумались о принце Уэльском. Миф грелки утерял былую силу. Почему бы не передать его в Голландию, под опеку Вильгельма? Возможно, он станет протестантом; а нет пусть будет католиком, но с укоренившимися воззрениями на конституционные обязанности.
Историки спорят, стоило ли Вильгельму воспользоваться миром с Францией и остановиться на таком решении. Определённо, он думал об этом. И если бы Иаков II умер годом раньше, оставив законного сына-наследника, свободного от той вражды, что окружала отца, дела нашей страны могли бы решиться совсем по иному. Вильгельм взвешивал возможность возврата сен-жерменского принца, но отчего этот факт уходит от внимания и упрёков грубых, поверхностных критиков, кто видят предательство в одной лишь переписке с опальным двором? Затем шли иные претенденты: дети Виктора Амадея Савойского, кто был женат на дочери знаменитой Минетты то есть на племяннице Карла II. Но Савойский дом был не в фаворе. Указанный герцог совсем недавно дезертировал из Великого союза в виду неприятеля. Третьими по очерёдности стояли права Ганноверского дома, представленного в то время престарелой курфюрстиной Софией. Решения помимо Иакова III казались повтором пройденного, повторением неприятностей, что возникли в Англии с воцарением иностранного короля. Монархические британские чувства не простирались далее принца с приметами островного сродства и с английской речью. Но тут вдруг и решительно поднялось иное чувство, подкреплённое логикой. Зачем нации мучиться в жерновах спорных претензий? Почему бы не завершить Вильгельмом Третьим монархию в Британии? В те дни денежные расходы на двор были так велики, что, высвободившись, позволили бы солидно укрепить флот или покрыть долгожданное налоговое послабление. Внезапно пробудившаяся республиканская идея потребовала неотложного и скорейшего решения о престолонаследовании. В таком настроении и был принят Акт о Престолонаследовании, передавший корону Ганноверскому дому на условиях, что кажутся буквальным упрёком, критикой царствования короля Вильгельма. Суверен должен быть англиканином не католиком и не кальвинистом. Он не может покинуть страну без парламентского разрешения (частая привычка некоторых персон). Он не должен держать совета ни с каким секретным Кабинетом или иным собранием около своей персоны, но с полным составом Тайного совета; а над Тайным советом, в свою очередь, становится выборный орган имеющий власть над бюджетом. Итак, царствование Анны оказывалось некоторой интерлюдией, и когда бы ни пришла её смерть, всё было загодя приготовлено для почтительного приёма Англией Ганноверского принца - нового суверена, закованного в оковы закона.
Позиция семьи Мальборо в этих основополагающих делах не допускает сомнений. Они, разумеется, не могли допустить, чтобы между Анной и её объявленным правом на трон вмешался какой-то план коронации принца Уэльского. Что до обстоятельств после смерти Анны, они оставили этот вопрос на волю времени. До той поры много воды утечет.
Скоропостижная смерть герцога Глостерского лишила Мальборо места, но он теперь так прочно укрепился на высотах английской политики, что положение его не пострадало, несмотря на новые разногласия с королём.
Вильгельм оказался беспомощным перед ториями. Он соглашался со мнениями вигов по вопросам текущей политики, но виги не хотели или не могли провести необходимых практических мер. Возможно, тори умерят свой гнев, получив королевское благоволение и приняв должную ответственность? Король обернулся к ним. Вигские министры один за другим теряли свои места. Шрусбери получил долгожданное дозволение ехать на Континент. Рассел (Орфорд) оставил Адмиралтейство. Блистательный Монтегю потерявший всякое влияние на Общины, принял решение оставить Казначейство. Сомерс, чрезмерно уверенный в собственных заслугах, сопротивлялся, пока не стал отставлен. Освободившиеся посты отошли ториям. В Кабинет вернулся Рочестер; Годольфин возобновил давнее своё дело контроль над финансами; а Мальборо человек с непартийными взглядами, ведший провигскую международную политику, персона в изрядно вылинявшем мундире тория непоспешно двигался по столбовой дороге неотъемлемых государственных интересов. Он двигался не силой краснобайства; не пружиной интриг; не закулисным, всегда упорным и часто успешным влиянием Сандерленда; не громкими хлопотами и подспудными трудами восходящих звёзд, подобных Харли теперь он стал спикером и принял место лидера тори в Общинах. Мальборо набрал вес, пользуясь личной влиятельностью, распространяя влиятельность на путях постоянной, благоразумной, умеренной сдержанности. В октябре 1700 года посетивший Мальборо Бриджес записал в дневнике: Мой лорд [Мальборо] уверен, что парл. не будет распущен, что король не расположен к государственному секретарю, и допускает, что сам может получить этот пост.[403] Голландский посол докладывал домой: Ещё не объявлено, но, скорее всего, граф Мальборо будет государственным секретарём, а Годольфин лордом Казначейства[404]. Но все эти ожидания стали сметены ходом дальнейших событий.
Война за испанское наследство разразилась при сильнейшем нерасположении сторон к военным действиям.[405] Ни одна большая война не начиналась при подобных настроениях оппонентов. Прошедшая война истощила Европу, люди лишились иллюзий. Горькие последствия восьми лет бесплодного конфликта повернули умы народов к миру по крайней мере, к осторожности; к соображениям экономической, никак не военной экспансии. Послевоенное сотрудничество, проросшее между Вильгельмом и Людовиком, тешило сердечные надежды в народах Морских держав и Франции. Они и прочие страны Европы замерли в долгом, задолго тревожном ожидании неизбежного: перехода испанской короны. И, непременно, вслед за этим событием, неминуемым и страшным, должны были прийти в действие большинство причин, способных разделить и растерзать Континент. Но до времени Европа пользовалась передышкой: страсти, казалось, улеглись; кровь остыла; руки дружбы сердечно простёрлись над прежними, глубокими разломами соперничества и страха. Не поверить ли в то, что два великих владетеля, два человека, поднявшихся над миром силою власти и замечательных дарований, долгие соперники в равной борьбе, объединённые теперь взаимоуважением смогут, постаравшись, найти мирный путь для своих изнурённых, обессиленных подданных? Возобновление мировой войны обернулось бы и катастрофой и разочарованием.
Вильгельм усиленно хлопотал о мире, и делал это нелицемерно - не только в силу особенностей своего характера. Он не умел выдумать, каким способом можно стронуть Англию с места, на следующую войну. Страна, казалось, растратила порох живущего поколения. Он видел пацифистскую ярость парламента; он склонился под неодолимым натиском сторонников разоружения; он, негодуя, понимал, что должен принимать английских поданных как они есть со всем их островным характером и изоляционизмом. Голландия могла сколько и как угодно воевать на своих границах, но Англия пресытилась Континентом и видела в сильном флоте и строгом нейтралитете удачный выход из смертоносной европейской путаницы. Без помощи Англии, Генеральным штатам приходилось по нужде сносить всё кроме полного порабощения. Нельзя было воевать с Францией без английской силы. Итак, Вильгельм вёл честную политику. Он должен был любой ценой хранить мир.
Историки ведут долгие диспуты об искренности Людовика XIV. В пользу Людовика говорит один аргумент общего характера. Авторам именитой школы видится едва ли вероятным то, что французский монарх не позволил себе даже и единого, краткого периода добросердечного поведения между долгими годами агрессий, интриг, олимпийского крючкотворства. Но истина в том, что Людовик жил под обаянием сильнейшего искушения такого искушения, что подорвало бы добродетели почти любого из смертных. Чувство, что в его невеликой телесной оболочке пребывает слава величайшей христианской нации, взошедшей к полному зениту; привычка к абсолютной власти над всем, от громадного до крошечного; соблазн играть игрою гиганта против пигмеев Nec pluribus impar[406] - - со многими преимуществами на руках - всё это сказывалось на нём самым решительным образом. И это искушение вело его по путям политики, где честная игра перемешивалась с нечестной; где добросердечие перекрещивалось с умыслом; а вместе виделось прегнуснейшим обманом.
Со времени последнего Договора о разделе 1668 год прошли более тридцати бурных лет. Субтильная жизнь-свечка бездетного короля Испании, прозванного страной Карлом Страдальцем мерцала, дымилась, угасала; пока что теплилась, но готова была потухнуть в любой миг. И всё же он прожил треть века. Великие мужи Европы, ежечасно ждавшие его кончины, уходили в могильную темень сами, один за другим. Но теперь свеча догорела до донца подсвечника. К жестоким физическим уродствам и болезням прибавился самый скорбный недуг рассудка. Жертвы короля не сомневались, что тот одержим бесом. Шарлатаны-священнослужители прибегали к жульническим экзорсизмам, вокруг распростёртого монарха шли тайные ритуалы, и король едва не умирал со страху в мороках являвшихся видений. Единственным его отдохновением стала болезненная медитация у могил. Он ковылял вниз, по лестницам, в мавзолей, где покоились его предки и его жена. Он открывал их гробы и пристально смотрел на останки. Он ложился в приуготовленную ему самому домовину и накрывался саваном. По ходу времени, расстройства его тела и рассудка всемерно множились и усугублялись; вся Европа в ожидании следила за его ослабевающим пульсом и усиливающимся сумасшествием. Европейские дворы получали доклады о каждом признаке, каждом симптоме его болезней; всё говорило о близящемся конце. Что случится тогда в испанской державе, распростёртой на полмира, как поступят на другой половине? Дюжина претендентов от успешного узурпатора Португалии до императора Леопольда выступила с притязаниями на большую или меньшую долю обширного наследства, заявляя о своих несколько туманных, однако неоспоримых в соображении каждого династических правах. Но разве не могут Вильгельм и Людовик, с их несравненным дипломатическим умением и опытом, повелители сильнейших европейских армий и флотов; двое, кто видят и понимают меру страданий нового континентального конфликта разве не могут они найти некоторое решение, склонив к нему всех кандидатов?
Французский историк Легрелль посвятил каждому из двух новых Договоров о разделе волюм в пятьсот страниц. Мы ограничимся кратким описанием того, что случилось. Англия и Голландия, живущие морской торговлей, мечтали о колониях, о богатстве за океанами, и не могли стерпеть положения, когда власть над Испанией, Мексикой, Южной Америкой и Средиземноморьем окажется в искусных руках Франции. Они понимали, насколько зависит их насущный хлеб и будущность от протекционистских тарифов, торговых законов, ограничений в морской экспансии. Англия и Голландия вместе и равно живейшим образом настаивали на независимости Бельгии от Франции. Народы протестантских государств содрогались, воображая перспективу объединения правительства, отменившего Нантский эдикт, с правительством, кто унаследовало и пользовалось орудием святой инквизиции. Император, этот католический деспот без чьей помощи протестантизм и парламентские институты стали бы истреблены дотла, выдвинул амбициозные и неисполнимые требования. И пусть его наследственные права на испанскую империю были весьма слабы с точки зрения закона их, дабы воспрепятствовать неимоверному расширению Франции, должно было поддерживать любой ценой. И если император не сумеет договориться с Францией о приемлемом разделе Испании, миру не миновать всеобщей войны. Имперский двор давно привык к династическому и монопольному владению испанским престолом, так что любое соглашение с Францией каким бы оно ни оказалось стало бы встречено в Вене с болью и гневом. Итак, Вильгельм и Людовик: только они могут выработать условия раздела и только у них есть сила, что заставит прочих покориться их воле.
Раздел Испании в этом была единственная надежда, единственный и желанный невоенный исход. И два ведущих владетеля занялись этой задачей, в полной тайне так, чтобы в Испанию и к императору не просочилось и шепотка. Главными, по порядку значимости, шли три кандидата, каждый со своими немалыми претензиями. В первую очередь Франция, представленная либо дофином, либо если не удавалось добиться объединения корон его вторым сыном, герцогом Анжуйским. Права эти основывались на браке Людовика XIV со старшей из испанских принцесс. Но некоторое условие ставило препону таковому праву: именно, священная клятва отказа от претензий на престолонаследование, данная при бракосочетании Людовика с будущей испанской инфантой. Но кардинал Мазарини связал исполнение этого условия с выплатой выкупа за невесту, и Испания никак не могла выплатить такой выкуп. Затем шёл император - первой его супругой была молодая испанская принцесса; он заявил претензию с обширными требованиями в интересах своего второго сына от второй жены эрцгерцога Карла. А третьим выступил императорский внук по линии первого брака, князь-курфюрст Баварии. Суть нового Договора о разделе от 24 сентября 1698 года состояла в том, что основная территория испанской империи должна была перейти к слабейшему, в смысле военных и государственных возможностей, претенденту, пусть и с наихудшими, среди прочих, династическими правами на испанский престол. Людовик и Вильгельм обоюдно обещали признать в князе-курфюрсте наследника Карла II. Дофину отходили Сицилия, Неаполь, Финале и некоторые другие территории в Италии. Эрцгерцог Карл должен был получить Милан. Морские державы, представленные Вильгельмом, не заявили территориальных притязаний, но получали гарантии важных прав морской торговли.
Подобные условия могут быть сочтены актом самоограничения Парижа. На деле, Франция получала солидные приобретения в Италии причём без дальнейшей войны а сила императора если и увеличивалась, то ненамного. По крайней мере, договор сохранял европейский баланс. Более того, историки отмечают, что Испания, Индии и основная часть испанской империи отходили к князю-курфюрсту, и это означало, что он едет в Мадрид и правит как испанский монарх. Замечательным итальянским провинциям готовилась совсем иная судьба. Они переходили к Франции, и, через дофина, в состав владений, которыми правил Людовик XIV. Так или иначе, договор этот стал недвусмысленным и реальным усилием в пользу мира. И он ненадолго остался тайным.
Проведав о сущности сделки, император мгновенно разъярился. Он отказался принять договор; он объявил, что подло предан недавними союзниками. В Испании последовал не менее громкий отклик. Среди кастильской аристократии прочно утвердилось общее убеждение испанская империя должна остаться неделимой. Иное - то, что наследие собранное предками станет поделено на куски, не вязалось с их патриотизмом более того, с их здравым смыслом. Они обвинили союзников в предательстве в обдуманном намерении расчленить страну. Если испанская династическая линия прервётся, если придёт другая династия, правитель должен получить наследство в целости. Кем и откуда будет этот принц, с кем будет связан в Мадриде полагали, что всё это несущественно перед опасностью раздела. Соответственно, Испания склонилась к князю-курфюрсту. Куда голова, туда и хвост; 14 ноября Карл подписал и объявил волю, по которой все владения Испании отходили нетронутыми выборному баварскому принцу. Скороспелое решение лишало императора даже и Милана, и всем было понятно, что Вена не примет его. Но император, за неимением возможностей, не мог оспорить завещания испанского короля; новые условия в некоторой степени укрепили соглашение, достигнутое Людовиком и Вильгельмом. Казалось, что доминирующие и самые деятельные силы Европы сумеют навязать прочим сторонам Договор о разделе 1698 года. Но тут вмешалось поразившее мир событие. Договор был подписан во дворце Вильгельма в Лоо в сентябре 1698 года. Мир узнал о воле Карла II 14 ноября. А 6 февраля маленький князь Баварии, наследник обширных земель; дитя, державшее в пухленьких ручках роскошный приз, переданный ему решением могущественных держав, внезапно скончался. Почему он умер, как он умер? Странная своевременность этого случая не обошлась без самых мрачных подозрений. Но сам факт блеснул по всему свету грозовой зарницей. Начались новые корпения над планами, трудные переговоры пошли с чистого листа.
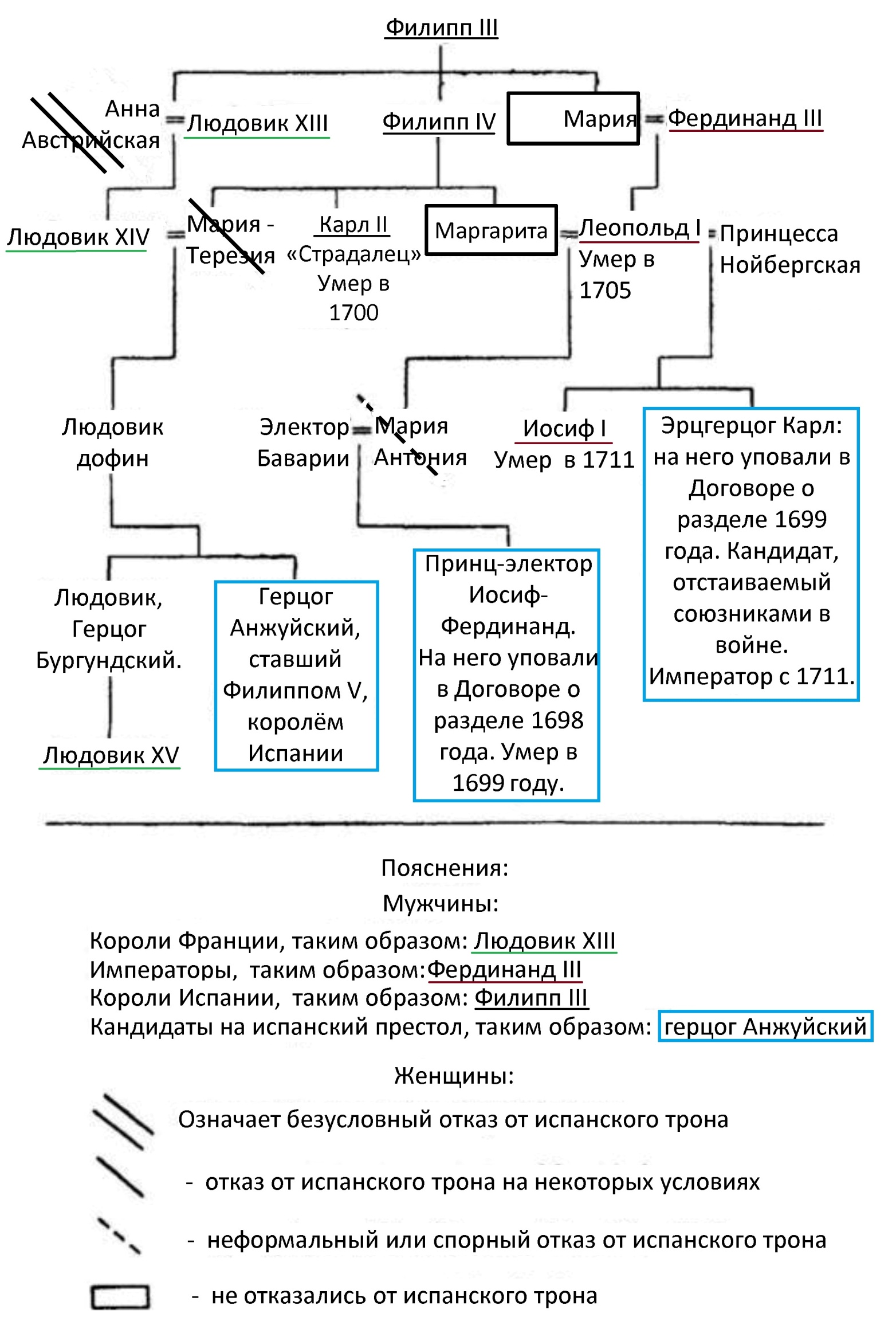
К началу 1699 года позиции сторон несколько изменились. Карловицкий договор покончил с долгой австро-турецкой войной. Император высвободил силы для концентрации на западе. Шансы на то, что Людовик сумеет получить всё испанское наследство для своих сына или внука без серьёзной борьбы с Австрией ухудшились. Но это преимущество более чем нивелировалось действиями палаты общин: роспуском британской армии, яростным неприятием любого вмешательства в любые континентальные затруднения. В итоге, 11 июня 1699 года Вильгельм и Людовик составили второй Договор о разделе. К досаде Аркура, французского посла в Мадриде, король Франции одобрил претензии эрцгерцога Карла на главную часть наследства. Ему отходили Испания, заморские колонии и Бельгия на том условии, что земли эти никогда не войдут в Империю. Дофин получал Неаполь и Сицилию; Милан с последующим обменом на Лотарингию и некоторые другие итальянские территории. Договор носил характер предварительного предложения, и император в течение двух месяцев должен был либо принять договор, став его участником, либо отвергнуть предложенное. Голландия предприняла энергичные дипломатические усилия, чтобы вырвать у императора согласие, столь льстящее австрийской династической гордости. Но император питал особое пристрастие к Италии и, в конечном счёте, отверг условия со словами: Status valde miserabilis si daremus Gallo quse peteret; esset potentior!.[407]
13 марта 1700 года договор ратифицировали одни лишь Франция и Морские державы.
Отсюда начинается переход Людовика ко всё менее прикрытому вероломству. Большую часть 1700 года, пока он вёл переговоры с Вильгельмом, посол Франции в Мадриде использовал все способы, в особенности деньги, чтобы выиграть при испанском дворе дело французского принца.[408] Людовик подписывал с Вильгельмом договор в пользу эрцгерцога Карла и, одновременно, устраивал в Мадриде движение в пользу собственного внука, Филиппа, герцога Анжуйского - второго сына дофина и, мало-помалу, двигал большую армию к испанской границе. Когда император не принял Договор о разделе, и война Франции с Империей стала неминуемым будущим, Людовик принял естественное решение раз без войны не обойтись, драться стоит не за скромные, но за максимальные притязания. Помимо прочего, слабость Англии в её пацифистском настроении и непоследовательное поведение Морских держав всё более давали знать о себе. Итак, король Франции успокаивал Вильгельма договором и сотрясал Мадрид пропагандой, готовясь взять всё, предложенное фортуной.
Пришёл решительный час. Карл II лёг на смертное ложе. В его недужном теле, затуманенном рассудке, в его суеверной душе, трепещущей на грани вечности, теплилась одна и главная мысль единство. Истощённый человек, едва способный вымолвить слово и пошевелить пальцем, остался верен этой мысли и велел, вместе с последним вздохом, передать огромное владение в целости и целостности одному и только одному принцу. Но какому? Вторая жена испанского короля, свояченица императора естественно благоволила австрийскому эрцгерцогу. И её желание едва не возобладало. Но в самый последний момент французское золото в Мадриде и французские штыки у Пиренеев одержали победу. Святой престол под новым Папой употребил своё влияние к выгоде Франции. Произошла дворцовая революция. Толедский архиепископ вместе с несколькими священниками укрепились в покоях умирающего, не допуская к нему королеву, и склонили короля к подписи под завещанием, отдавшим трон герцогу Анжуйскому. Предсмертная воля монарха получила оформление 7 октября; гонцы Эскориала помчались в Париж. Карл II отошёл 1 ноября.
Людовик XIV встал перед важнейшей развилкой французской истории. Что теперь: остаться при договоре, отвергнуть завещание, и в одиночку сражаться с Австрией? Или отречься от договора, принять завещание и отстаивать претензии внука против всех, кто выйдет на поле? Параграфы соглашения о разделе ещё блестели свежими чернилами, но оставим в стороне вопрос чести и бесчестия: выбор Людовика, подобно многим важнейшим решениям, стал итогом тщательного расчёта. Таллар, прибывший из Англии в Фонтенбло 2 ноября, знал о завещании и о крайних обстоятельствах испанского короля. Он посоветовал Людовику исполнить Договор о разделе. Война с императором, в любом случае, казалась неизбежным делом, но если договор сохранял силу, император оставался без союзников или почти без союзников. История, добавил Таллар, говорит о том, что французский король в Испании не всегда выгоден Франции. Торси поддержал Таллара. Чтобы выиграть время и утвердиться в решении, Людовик приказал сообщить голландскому Пенсионарию Гейнзиусу о своей приверженности Договору раздела. Людовик, желая оторвать Морские державы от императора, испрашивал у них помощи для исполнения условий договора, но, в то же время, держал открытой дверь в Мадрид.
Новость о смерти Карла II пришла в Париж 8 ноября, медлить было некогда. Согласно Сен-Симону, в покоях мадам Ментенон собралось совещание: король, дофин, Поншартрен (канцлер), герцог Бовилье, Торси. Торси и Бовилье стояли за договор. Канцлер и дофин за последнюю волю короля Испании. По утверждению врагов именно мадам Ментенон, хотя Торси и опровергает это, склонила короля к решению. Так или иначе, Людовик принял завещание и, 12 ноября, написал об этом в Мадрид.
16 ноября в Версале стала разыграна знаменитая сцена. После утреннего приёма, Людовик, пригласив своего внука и посла Испании Кастеля де Риоса в королевский кабинет, сказал последнему, указывая на герцога Анжуйского: Вы можете приветствовать его, как своего короля. Посол упал на колени, поцеловал руку принца, и произнёс длинную клятву верности на испанском. Людовик сказал: Он недостаточно знает испанский. Я дам ответ за него. Затем открылись двустворчатые двери, ведущие в главную галерею, и король сказал собравшимся придворным: Господа, вот король Испании. Он получил корону по праву рождения. Испанский народ желает и требует его у меня. Я с радостью удовлетворяю их желание. Такова божья воля. Затем он добавил, обернувшись к новому королю: Будьте хорошим испанцем это ваш первый долг; но помните, что вы рождены французом, и заботьтесь о согласии между двумя народами. Так вы сделаете их счастливыми, и сохраните мир в Европе. Кастель де Риос заключил действо своей знаменитой бестактностью: Нет больше Пиренеев!
Перенесёмся в Англию. Когда пришли новости, Вильгельм обедал в Хемптон Корте. Он склонил лицо долу, тщетно пытаясь скрыть нахлынувшее чувство. Король понял, что дело всей его жизни потрясено и колеблется, при полном его бессилии. Он знал, что парламент останется глух ко всем призывам. Он думал послать с протестом в Париж Мэтью Прайора, поэта и потребовать созыва Генеральных Штатов. Но Торси написал оправдательную записку о действиях своего господина, пустив в ход благовидные аргументы. Морские державы не смогли гарантировать Договор о разделе; император не пожелал принять его; право испанского народа выбрать себе короля неоспоримо; престолы, как то обещано, не перейдут к одному лицу. Рочестер и Годольфин настаивали на том, как трудно будет навязать Испании и Австрии двум самым заинтересованным сторонам договор, от которого те готовы защищаться силою оружия. Вильгельм склонился перед неумолимой логикой обстоятельств. 22 декабря Таллар официально сообщил в Париж, что Англия и Голландия готовы признать Филиппа V при умеренных гарантиях. У Вильгельма осталась одна надежда: пуститься в обсуждение этих гарантий и возродить Великий союз против Франции в будущих дипломатических дискуссиях.
Из современного письма, отправленного из Лондона, видно, как сильно сомневались тогда в искренности французского короля.[409]
В скором времени, мы узнаем, как император принял этот camouflet[410] - если вам известно значение этого слова. Так говорят, пуская клуб дыма кому-то в нос. Должно быть, двор его погрузится в безмолвие. По моему мнению, император и прочие одурачены. Договор составили, чтобы обмануть всех, и подвигнуть бедного короля Испании к соответствующему завещанию. Герцог полагает, что присутствие господина Аркура подтверждает мои соображения; надо воздать ему должное он отлично справился с испанцами. Таллар оказался в числе одураченных он думал снискать благоволение трудами над договором, а оказался лишь орудием обмана в руках своего хозяина.
Бросим беглый взгляд на нового обладателя испанской короны. В восемнадцать лет он вызрел как безупречный продукт придворного правления мадам Ментенон. Он был пылким католиком и истовым французом. Ему равным образом претили работа и развлечения. Всю жизнь он страдал от учащённого сердцебиения и ипохондрии, и отличался чрезвычайным сладострастием. Религия не позволяла ему удовлетворять желания вне супружеской спальни, так что герцогу быстро нашли невесту савойскую принцессу; после её смерти он по медицинским и священническим советам немедленно женился вторично. Прибыв в Испанию в начале 1701 года он, несомненно, желал снискать популярности. Но преуспел лишь частично. Обыкновением его была непунктуальность. Он обещал вставать ранним утром и заседать в Государственном совете. Между тем, министры, собиравшиеся в девять, непременно ждали его до одиннадцати. Он обещал давать иногда публичные обеды. Он приказывал накрыть ужин к восьми, но редко садился за стол раньше одиннадцати. Он не выносил испанской кухни, и быстро заменил весь испанский персонал французами. Он был привязан к Франции. Он часто закрывался в комнате с некоторым доверенным человеком, чтобы лить слёзы, воображая развлечения Версаля и Фонтенбло. В начале 1702 года хорошо знавший его маркиз Лувилль пророчески сказал: Король, который никогда не царствовал, и никогда не будет править.[411] Фактически, он всегда был орудием в руках своего деда, или жёниной гувернантки госпожи Урсин или своих духовников. С важнейшими вопросами испанской политики адресовались напрямую к Людовику XIV.
Настроение Общин никак не способствовало обсуждению европейских дел. Ни в одной партии не верили, что страну можно заставить воевать против их воли и уж никак не верили в то, что воля эта претерпит какие-то изменения. Общины только что заставили Вильгельма поставить подпись под Актом о престолонаследовании. Общины только что завершили разоружение Англии. И Общины легко приняли переданное Талларом уверение Людовика в том, что: довольствуясь собственной властью, он не тщится увеличить её за счёт своего внука. Обманутые этой нехитрой ложью, они дошли до того, что сочли завещание Карла II наилучшим решением; и партия тори обратила свой гнев на неслучившиеся Договора о разделе. Они клеймили эти бесплодные дипломатические документы как плохие сами по себе и предательские по отношению к союзникам; более того, согласованные и подписанные в тайне - и объявили последнее обстоятельство нарушением конституции. Короля сбили с пути истинного: и главного виновника нашли в Портленде. Последний переложил ответственность на весь Кабинет. Призванный палатой лордов перечислить участников поимённо, он назвал не только главных своих коллег по правительству, но и Мальборо. Мальборо немедленно поднялся с места, и отверг всякую свою ответственность, добавив, что мог бы дать доказательства, имея право говорить свободно.[412] Прочие министры отбросили нерешительность, и последовали его примеру. Лорды решили обратиться к королю за разрешением на огласку всех обстоятельств. Соответственно, назавтра, министры и Мальборо поочерёдно объяснили, что узнавали о договорах лишь тогда, когда их ставили перед свершившимися фактами.
В обстоятельствах времени, когда министерское, кабинетское правительство не вышло ещё из зачаточного состояния, такой метод защиты был вполне приемлем. Король был единственным руководителем внешней политики, парламент мог лишь давать одобрения. Внешняя политика перешла в ведение премьер-министра и Кабинета, начиная с правления Анны. Общины объявили процедуру импичмента против Портленда и некоторых иных министров, но не против Мальборо, кто, пусть и знал о тайных переговорах, не занимал никакого поста, и был защищён своим торизмом. Импичмент медленно и с трудностями шёл вперёд, преодолевая сопротивление палаты лордов. Нам трудно оценить силу давления на Мальборо, но он, в который раз, предпочёл торийскую партию интересам короля. Он даже голосовал в пользу протестов против решения большинства в Лордах, хотя они были составлены в столь резких словах, что стали вымараны из протоколов. Если бы его в своё время назначили государственным секретарём, он, возможно, трактовал бы договоры по-другому, но теперь - мудро или немудро - не хотел претерпевать из-за политики, к коей был непричастен, и, несомненно, желал, чтобы это стало ясно всеми понято. Так складывались его отношения с Вильгельмом в конце 1700 года.
Но затем извне, в лихорадочную беспечность английской внутренней политики стали врываться сведения об отвратительных инцидентах. Причиной первого из них стал Мелфорт: мы оставили его в Сен-Жермене, за совместной с Нэрном работой над документом, претендующим быть свидетельством предательства Мальборо: его письмом о брестской экспедиции. В феврале, сэр Роберт Коттон, министр почт, нашёл среди корреспонденции, доставленной в Англию из Парижа письмо, адресованное Мелфортом - тот писал из Парижа - старшему брату, Перту - последний обитал в Сен-Жермене. В письме шла речь о сильной якобитской партии, угнездившейся в Шотландии и о плане французского вторжения в Англию в интересах якобитского дела - и говорилось так, как если бы план этот был уже пущен в работу. Вильгельм использовал письмо Мелфорта как доказательство французского вероломства. 17 января он представил этот документ обоим Палатам как дело величайшей важности. Письмо произвело фурор. И Лорды, и Общины не сомневались, что подобное послание в мирное время могло появиться лишь наущением Версаля. Верный Таллар, оставшийся без инструкций, защищал своего господина, как мог. Людовик был совершенно разъярён. Он знал, что его провели, исполнили какой-то трюк с глубоко обдуманным намерением. Французские власти провели строжайшее расследование. Мелфорт отпирался, заявляя, что всего лишь написал брату, в Сен-Жермен. Но как, каким образом письмо оказалось среди почты, доставленной в Лондон? Должно быть, предполагал Мелфорт, виною какая-то путаница при упаковке почты в Париже. Французское правительство не приняло такого объяснения. Они решили, что Мелфорт для видимости адресовал письмо в Сен-Жермен, но потом, умышленно, имея целью рассорить две страны, устроил так, что оно попало не в ту почтовую сумку. Они заподозрили в нём предательство, купленное взяткой одного из агентов Вильгельма. Последнее не было доказано, но Мелфорта выслали в Анжер. Он никогда больше не увидел Иакова.
В то же время, и парламент стал помалу понимать, насколько двусмысленны если не сказать сильнее намерения французского короля в том, что составляло суть испанского вопроса, а сутью было обособление царствований во Франции и Испании. Действительно, в феврале 1701 года Людовик с определённостью заговорил о праве внука на французское престолонаследование, то есть о деле рокового значения для морских держав. Затем подоспели новости, крайне неприятные для британских коммерческих интересов, защитницей коих выступала в русле борьбы за религиозные и гражданские свободы партия вигов: испанцы передали французской компании исключительное право на ввоз негритянских рабов в Южную Америку. Стало ясно, что над торговой свободой Англии в Средиземноморье нависла угроза. Но главным событием, поднявшим всю Англию на ноги и открывшим людям глаза на истинные последствия объединения корон Франции и Испании стала масштабная военная операция, проведённая под личиной законности. Филипп V въехал в Мадрид под овации. Испанские Нидерланды бурно приветствовали его восшествие на престол. На улицах Брюсселя зажглась иллюминация в честь нового суверена. Но крепости Бельгии имели особое значение для Нидерландов: они были главным барьером на пути французской агрессии. По условиям Нимвегенского мира самые важные из бельгийских крепостей стали заняты гарнизонами Нидерландов и испанскими солдатами-союзниками, кто помогали голландцам в защите жизненно значимых фортеций. Теперь положение переменилось. Испанцы оказались союзниками Франции не в жалкую силу каких-то бумажных договоров, но как подданные одной монаршей семьи. Европейские державы, дравшиеся с Францией в прошлую войну, взяли паузу, осмысливая произошедшее, воздерживаясь до времени от решительных действий. Но всюду взвились штормовые сигналы. Пошли приготовления; начался призыв уволенных солдат и офицеров в их старые части. Людовик склонился ко мнению, что прежние его враги станут воевать, если наберут достаточно сил и наберутся достаточной храбрости, и решил заручиться на будущее пограничными крепостями.
Вильгельм с мукою видел беду близящегося удара. В феврале месяце 1701 года перед всеми рубежными крепостями собрались крупные французские силы. Испанское командование приветствовало их в открытых воротах. И французы вошли - как утверждалось, чтобы лучше защитить владения Его Католичнейшего Величества. Голландские гарнизоны, оставшись в меньшинстве и, не дерзнув нарушить мира, стали интернированы. Антверпен и Монс; Намюр - знаменитое завоевание Вильгельма; Зутлеув, Венлоо и десяток второстепенных пунктов - Ат, Ньюпорт, Остенде, Уденарде - перешли в руки Людовика в считанные недели; переход прошёл без единого выстрела: несколько шляп с перьями поднялись в вежливых жестах, и дело было сделано. Иные крепости, такие как Льеж, Уи, Рурмонд попали в распоряжение Людовика после присоединения ко Франции княжества-епископства Льежского.
Бельгийские цитадели неуклонно оборонялись во все годы Аугсбургской войны; переход всего лишь одной рубежной крепости к другому хозяину почитался за достойный результат тяжёлой кампании теперь они уплыли из рук за время от полнолуния до новолуния. И чтобы отыграть потерю, чтобы вернуть позиции, установленные Нимвегенским миром, Мальборо в скором будущем придётся отбирать у противника каждую из этих крепостей. В обвале пограничного барьера уцелел один Маастрихт: там, по чистой случайности, оказался очень сильный голландский гарнизон, назначенный для охраны огромных складов с боеприпасами. Все приобретения Великого союза к 1689 году, за долгие годы войны в Нижних Странах растаяли, словно снег на Пасху.
Европа поднялась; зашевелилась и Англия. Некоторые поклонники Людовика порицают его за неоправданно резкие меры. Они говорят, что всё и так благоприятствовало начертаниям короля Франции; что внука его приняли как законного монарха во всех краях испанской империи, в Новом и Старом Свете; что противники остались в разобщении и полной беспомощности; и Людовик, по их мнению, должен был прибегнуть к доблестям спокойствия и сдержанности. Но Людовик, как и Вильгельм, отчётливо видел собирающийся шторм. Он принял решение, и готовился пуститься в отважное предприятие; он знал цену пограничным крепостям.
Народы быстро вооружались, и мы легко вообразим, как все профессиональные солдаты бедные, ненужные, презираемые увидели впереди свет надежды и спасения; определённость военной службы с жалованием, пищей, кровом, шансом на боевую славу. В который раз военные люди вернулись на круги своя. В который раз забили барабаны, и по дорогам зашагали полки в красивых мундирах. В который раз самодовольные торговцы и ловкие политиканы поняли, что не могут обойтись без мундирных щёголей. В который раз они принялись восхвалять военное сословие и просить с постыдным запозданием о защите, что вновь понадобилась стране.
Ранним летом 1701 года, вигское меньшинство в Общинах мобилизовало памфлетистов во главе с Даниэлем Дефо, и бросило их на обращение электората. Главной темой этих перьев стала опасность для английской коммерции от французского короля Испании. Вся вторая часть интересного трактата Рассуждения о наследовании герцогом Анжуйским отдана вопросам торговли. На кону всё, что мы имеем; возможно, что столь великая опасность не угрожала нам за всю историю нашего народа. Так говорили виги. Но тори медлили повернуться ко мнению, столь контрастирующему с их прежним направлением. Они по-прежнему травили Вильгельма III, настаивая на дальнейшей экономии. Они по-прежнему грезили о внеевропейском затворничестве, а вокруг вздымалась нация. 8 мая 1701 года фригольдеры Кента подали Общинам петицию, умоляя палату вотировать особые ассигнования, чтобы король пока не поздно сумел помочь союзникам. Воинствующие пацифисты пожелали наказать фригольдеров за наглую выходку. Они успели арестовать вожаков но потеряли всякую опору, земля ушла из-под их ног. Конструкция островного общества, где мечтали жить изоляционисты, обрушилась с явственным грохотом. И торийскому парламентскому большинству пришлось несколько отступиться. В один день 12 июня они исторгли от короля Акт о Престолонаследии и, одновременно, уполномочили монарха искать союзников. Как бы ни повернулось дело, Голландии дали безоговорочную гарантию на десять тысяч солдат. Тори продолжали бороться за совершенно уже ненужный импичмент Портленда сотоварищи, но Вильгельм понял, что дождался прилива и, оседлав волну, объявил парламентские каникулы, отлично понимая, что этот состав депутатов отжил своё время.
Французским писателям свойственно недооценивать остроту обид, поднимавшихся в течение 1701 года в Англии и Голландии, пока Людовик на глазах всего света прибирал к рукам правление испанской империей. С каждым месяцем вопиющие реалии всё более будоражили мир, расходясь ширящимися кругами, и не уйти от восхищения, наблюдая за тем, на какой манер Вильгельм, готовил сопротивление французской агрессии, организовывал и впрягал в работу копящиеся неудовольствия. В конце 1700 года французские агенты в Лондоне и Гааге докладывали, что никакая из Морских держав не объявит войну Франции - такое развитие событий невероятно; но Вильгельм, чувствуя себя обречённым человеком, видя, как на его глазах рушится дело всей его жизни, так хорошо ставил в строку каждую ошибку Людовика, что к середине 1701 года две оппонировавших ему партии: торийское большинство в Общинах и всевластные амстердамские купцы, поручили ему делать всё необходимое для защиты мира в Европе - то есть, для войны. Одни и те же процессы, с их логикой, непререкаемой для современников, подорвали влияние торийской партии и сблизили Вильгельма с Мальборо. Они объединили усилия: теперь как двое равных. Пришло время, когда Вильгельм, поняв, что должен снова обнажить меч Англии, осознал со всей скорбной неотвратимостью, что сам он уже не в силах поднять этот меч. Медлить было нельзя; и двое отбросили прежние полудоверительные отношения и все старые обиды. Кто-то должен был делать дело. И король не усомнился в выборе единственном выборе. 31 мая он назначил Мальборо командующим английских войск в Нидерландах. 28 июня в день объявления парламентских каникул Мальборо стал чрезвычайным послом Англии в Соединённых провинциях. Инструкции, переданные Мальборо,[413] говорят об обширности его полномочий. Он получил право не только оговаривать рамочные условия некоторых соглашений, но, при необходимости, заключать межгосударственные договора без предварительного обращения к королю или парламенту. Но король оставался неподалёку, в самом тесном контакте с Мальборо. 1 июля королевская яхта доставила обоих в Голландию. Враждуя с Мальборо, не понимая Мальборо, Вильгельм испортил и упустил многие возможности своего царствования, но теперь эти двое, два воина, два государственных мужа работали, наконец, заодно. Многое было потеряно; всё можно было вернуть. Они ехали строить новый Великий союз.
Пришло время Мальборо: ему, наконец-то, доверились в важнейших делах. В первую очередь он должен был предпринять ещё одну, последнюю попытку примирения. Затем - при неудаче - ему предстояло составить наступательный и оборонительный антифранцузский союз трёх великих держав: Англии, Голландии и Империи; потом облечь основной союзнический договор системой вспомогательных соглашений и привязать к ядру коалиции Пруссию, Данию, германские княжества; по возможности, и иных - числом поболее и заключить особый договор с Швецией, обеспечив, по меньшей мере, её благожелательный нейтралитет. На Мальбороо возложили переговоры о denombrement - то есть о квотах, о тех численностях солдат и моряков, которые каждая страна - участница обязывалась выставить в пользу общего дела - а также переговоры об относительном старшинстве офицеров из разных союзнических сил. Помимо перечисленных обязанностей, он принимал, распределял, организовывал, обучал и всячески распоряжался британскими войсками, собиравшимися теперь у голландских границ, и, наконец, хлопотал об их обеспечении боеприпасами и продовольствием с расчётом не только на возможные действия осенью 1701 года, но и для неминуемой кампании следующего, 1702 года. Король обретался рядом, обыкновенно в Лоо; на деле вся работа досталась Мальборо и стала им исполнена. Одновременно, через Годольфина, он пристально следил за бурными делами английского парламента, за домашними настроениями, и за соответствующими настроениями короля Вильгельма. В такой суматохе дел он провёл следующие четыре месяца; здесь, в первый раз мы видим Мальборо за работой по его способностям.
Около него появились два человека два сотрудника, кто станут и останутся ближайшими друзьями Мальборо, его несгибаемыми сторонниками. Он знал их прежде и давно[414]. Уильям Кадоган, сын дублинского законника, снискал доверие Мальборо в делах под Корком и Кинсейлом. Мальборо отозвал Кадогана из Ирландии где тот служил майором Инскиллингских драгун назначив генерал-квартирмейстером в Нижних странах и Кадоган прибыл на место с двенадцатью батальонами из Ирландии. Он пройдёт с Мальборо десять кампаний как генерал-квартирмейстер, но не только: он будет исполнять работу - в понятиях нашего времени - начальника штаба и начальника разведки. Мальборо обыкновенно посылал вместе с разведывательным кавалерийским отрядом офицера высокого ранга, осведомлённого в его соображениях и планах, а значит и способного видеть неприятеля глазами командующего. Такую задачу постоянно исполнял Кадоган; и если говорить о крупных делах, его действия с передовым охранением у Уденарде стали образцом умения, прозорливости, дерзания. Он неизменно действовал в первых рядах всех сражений Мальборо; участвовал во всех бесчисленных операциях патрона. Ничто не могло нарушить обоюдопонимания между ними. Ничто не смогло смутить преданности Кадогана шефу. Он разделил падение Мальборо, отказавшись отречься от величайшего человека, кому я бесконечно обязан. Я стал бы чудовищем, поступив иначе - добавил тогда Кадоган.
Второй работал секретарём Мальборо - военным и политическим. Адам де Кардоннел, сын французского протестанта, с ранних лет служил в военном министерстве, поднявшись до начальника департамента. Он познакомился с Мальборо в начале царствования Вильгельма. С начала 1692 года Кардонелл исполнял для Мальборо секретарскую работу, и стал, со временем особо близким и доверенным другом патрона. Он, как и Кадоган прошёл с Мальборо все военные кампании. Он вёл всю его корреспонденцию с королями, принцами, полководцами Великого союза, ведущими английскими политиками, составлял черновики писем, записывал под диктовку Мальборо, обрабатывал его наброски к великой выгоде для грамматики и орфографии шефа. Воистину, Кардоннел делил с ним ветер и волну.[415] Мальборо встретил судьбу во всеоружии - помимо собственных умений, он мог распоряжаться задолго выбранным и подготовленным аппаратом для военных и гражданских дел, и аппарат этот оказался настолько хорош, что служил Мальборо безо всяких изменений во всей дальнейшей его деятельности.
Пришло время вывести на наши страницы знаменитого боевого товарища Мальборо. Император, ободряемый Вильгельмом, собрал за весенние месяцы в Южном Тироле тридцатитысячную армию. И войском этим командовал принц Евгений.
Принц Франсуа Евгений Савойский[416] родился в 1663 году, в Париже, но воевал на стороне Австрии, командуя армиями на всех фронтах Империи: число его кампаний переваливает за тридцать. Он стал военным в возрасте двадцати лет, и ушёл с военной службы, разменяв шестой десяток. Когда Савойский не воевал с французами, он бился с турками. В двадцать он стал полковником, в двадцать один год генерал-майором, в двадцать шесть генералом от кавалерии. Он получил главное командование за десять лет до Мальборо и сложил с себя главное командование через двадцать лет после завершения карьеры Мальборо. Он непременно сражался в первых рядах. Жизнь, прошедшая среди бесчисленных и почти неодолимых опасностей, в трудах, неудачах и триумфах, оставила на его тощем теле множество шрамов, но он находил неизменное наслаждение в исполнении воинского долга. Он никогда не женился, был проницательным покровителем искусств, но война владела им, как единственная страсть жизни. Ко времени нашего повествования, решительная победа над турками при Зенте возвысила его до самого знаменитого полководца Европы[417].
Евгений был внук герцога Карла Эммануэля Савойского и сын Олимпии Манчини, племянницы кардинала Мазарини, одной из первейших придворных красавиц Людовика XIV. В ранние годы, его, юношу хрупкого телосложения, со вздёрнутым носом и короткой верхней губой хотя и с прекрасными глазами - сочли невзрачным и негодным для солдатского ремесла. Против воли, он стал священником, и король прозвал его маленький аббат. Отец Савойского дважды становился изгнанником по причине дворцовых интриг. Скорби матушки и собственная неудачная судьба глубоко обидели юного принца, и он покинул Францию, поклявшись - как то говорят что вернётся обратно только с мечом в руке. И Франция получила в нём упорнейшего, пожизненного врага. После смерти отца, Евгений и двое его братьев эмигрировали в Вену. Несклонность к ветрености, что так вредила Евгению в Версале, произвела хорошее впечатление при мрачном дворе Леопольда. Первый военный опыт Евгения пришёлся на трагический 1683 год, когда турки подошли к воротам Вены. Тогда погиб его старший брат. Но Евгений отличился; отсюда началась его карьера в чужой стране. Император восхитился Евгением и полюбил его. Принц увидел войну в грубейшей её форме, сражаясь под началом знаменитого Карла Лотарингского. Получив полковника, Савойский оставил прежнюю мысль о княжестве в Италии; отныне он желал одного: стать командующим имперской армии.
Исполняя испанское завещание, Людовик вошёл в Ломбардию; французская армия под началом Катина заняла Мантую и долину реки По, встав по линии Адидже от нижней точки озера Гарда до территорий Венецианской республики. Катина перекрыл сильными отрядами все юго-западные проходы из Тироля в долины Ломбардии и Милана. Евгению с австрийской армией, собранной в Ровередо приходилось действовать против французов в значительном численном меньшинстве; он мог выбирать из множества способов и каждый выбор был чреват трудами и опасностями. Мы дадим здесь лишь краткое изложение его блистательной кампании. Он притворился, что будет наступать правым крылом на Милан, но вместо этого неожиданно для неприятеля пробрался на юг, в Италию, по малоизвестным горным проходам. Он быстро пошёл через Виченцу, нарушив нейтралитет Венеции. Целесообразность не всегда деликатна[418]: он вышел в долины, обманув Катина, скованного приказами о строгом уважении нейтралитета Венеции. Вместо того, чтобы искать боя с Евгением, где бы тот ни оказался, Катина решил оборонять линию Адидже. Он распределил свои войска по фронту в шестьдесят миль. 9 июля Евгений внезапно наскочив на правое крыло французов у Карпи, прорвал и обошёл фронт неприятеля. Катина откатился к Минчо. Евгений, повторно побив его у Ногары, перекинул войска против другого вражеского фланга к озеру Гарда, к Пескьере и, оттеснив Катина, создал угрозу сообщению французов с Миланом. Катина отступил в Ольо и стал затем сменён маршалом Вильруа, прибывшим из Фландрии. Евгений укрепился в Кьяри и 1 сентября с большими потерями отбил атаку Вильруа. Он прочно встал в Ломбардии и спокойно ожидал зимы, после серии маршей и боёв, сравнимых по дерзости и успехам с теми кампаниями, что в тех же самых местах, но через столетие провёл Наполеон.
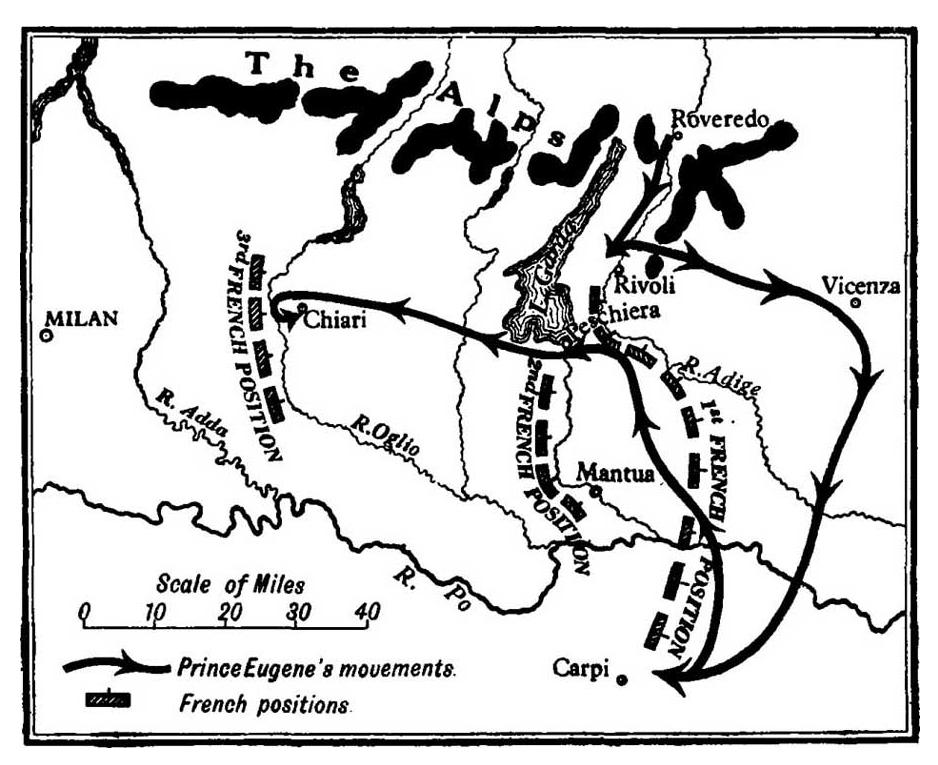
Ветер переменился, и король - пишет Кардоннел 4 июля
на удивление скоро прибыл в Гаагу из Маргита... Мой лорд Мальборо следовал за ним очень медленно [то есть, следовал от берега] и приехал сюда прошлой ночью. Дом, снятый здесь его лордством, я уверен, будет главной его квартирой, если война не призовёт его в Брабант[419].
Но в скором времени Генеральные Штаты передали в распоряжение Мальборо дом принца Морица[420] около королевского дворца. Именно в этом привлекательном здании - пожар уничтожил его в 1704 - пировал Карл II в канун реставрации. Дом Морица стал теперь центром создания Великого союза. Сюда зачастили послы и полномочные представители многих стран. Здесь шли совещания, переговоры, банкеты и церемонии непременные для дел высокой дипломатии того времени. И Мальборо стал особым среди всех человеком. Его обаяние и такт; его безошибочная прозорливость; его замечательная наружность; то, что король определённо доверил ему и передал в его руки всё дело, немедленно сделали Мальборо персоной преобладающего влияния. Он, почти сразу же, заручился уважением Пенсионария Гейнзиуса: отсюда и опять началась история одного из тех долгих, нерушимых союзов, что так характерны для великого периода жизни Мальборо. Из Гааги ему было удобно вести и военные дела, инспектировать лагеря у границы или наезжать к королю в Лоо. К концу августа он посетил английские войска в Бреде, провёл осмотр иных гарнизонов, и через месяц сопровождал Вильгельма в таком же выезде. В завершение поездки он устроил королю и главным генералам обед в Бреде, со всеми воинскими почестями. То было последнее посещение Вильгельмом войскового лагеря.
В сущности, второй Великий союз собрался, чтобы провести в жизнь некоторый очередной вариант Договора о разделе. В первую очередь, пришлось говорить с имперцами с их непомерными притязаниями: понадобилось сильное давление, чтобы склонить Леопольда к уступкам в пользу Голландии; затем пришло время отстаивать интересы Англии перед двумя союзниками. Сердитые парламентские речи о вильгельмовых Договорах раздела были у Мальборо на слуху, и он, заботясь о чувствах Общин, всячески выпятил в своём договоре такую частность, как буканирство на морях и океанах, желая согреть торийские сердца. В конечном счёте, он добился должного результата, пощадив гордость имперцев, успокоив настороженное упрямство голландцев, ответив колониальным и торговым аппетитам англичан. В письме Годольфину от 22 июля Мальборо ясно излагает текущее положение дел:
Мы потратили много времени, выслушивая претензии имперских министров к Договору о разделе, и когда подошли к делу, ради которого собрались, они предложили следующие основы будущего соглашения: мощь Франции должна быть подорвана, а император восстановлен в его неоспоримых монархических правах в Испании. Но Пенсионарий согласился лишь с тем, что император должен получить удовлетворение во Фландрии, что поспособствует безопасности Голландии и Милан как феод империи, но не более того. После четырёхчасовой перебранки два посла удалились; тогда я попытался укрепить Пенсионария в мысли, что никакой договор не будет принят в Англии если мы не позаботимся о Средиземноморье и Западных Индиях. Когда я доложил о том королю, он согласился со мною, так что Пенсионарий обещал приложить усилия для должного убеждения города Амстердама - тамошние представители не соглашаются ни на что, помимо Фландрии и Милана[421].
Ко времени работы над союзническим договором, французские и австрийские войска успели сойтись и жестоко дрались в Италии, но последняя надежда на мир ещё теплилась. Мальборо получил особые инструкции, предписывающие ему переговоры с послами Франции и Испании в Гааге. Он ещё раз объявил требования Морских держав: убрать французские гарнизоны из рубежных крепостей; передать города, ставшие предметом беспокойства, от испанцев под англо-голландский контроль; гарантировать удовлетворительное вознаграждение императору из испанского наследства. Он полагал, что победы Евгения в Италии, ход формирования Великого союза в Гааге, и очевидная готовность союзников к крайним мерам, может подействовать на Людовика, убедив его вернуться к отвергнутым в марте условиям и принять их в августе. Вскоре после приезда в Гаагу, Мальборо сообщил д'Аво что получил указание работать над соглашением[422]. Трудно сказать, как далеко он готов был зайти. Должно быть - писал он Годольфину[423] - вы не хуже нас, работающих здесь, разбираетесь в вопросах войны и мира, в том, что всё зависит от французов, и вы понимаете, какие наступят последствия, если они не согласятся на достойное удовлетворение для императора. Вопрос получил скорое разрешение. Король Франции с порога отказал императору, отказавшись даже входить в какие-либо переговоры с послом воюющей с ним державы - пусть война и не была формально объявлена. 5 августа дАво покинул Гаагу и уехал в Париж.
Теперь, в любой момент кровопролитная война могла разразиться и в Нидерландах. Пришли сведения о том, что Буффлер и Вильруа вызваны на совет в Намюре. События призывали к чрезвычайной бдительности. Уже 1 августа Мальборо писал Саре, стремившейся приехать к нему в Гаагу:
Дерен, 1 августа.
* Я приехал в Лоо вечером в среду и провёл там вчерашний день; король страдает болями в колене. Все и я в том числе думают, что это подагра, хотя и не в столь болезненной форме, как бывает у иных. Теперь ему лучше, и есть надежда, что он охромел ненадолго - ведь король Франции отослал своего посла из Гааги, и нам нужно понять, причём безотлагательно, начнёт ли он войну; всё это вынуждает меня сказать тебе с тяжёлым сердцем: оставь мысли о путешествии в эти края до поры, пока я не смогу с некоторой определённостью сообщить о собственном положении, так как дела наши совершенно зависят от того, что вознамерится предпринять Франция.
12-го он написал Бриджесу:
Гаага. 12 августа 1701 года.
*Сэр,
... Пользуясь случаем, позволю себе писать вам так, как должно обращаться к другу. Мы здесь очень надеемся на возможный успех в Италии, и убеждены, что французы проявят благоразумие, или, по крайней мере, примут в расчёт то, что может случиться там. С нашей стороны не заметно каких-либо признаков открытия военных действий уже в этом сезоне: тем не менее, мы разместили у границы около ста тысяч человек, и пограничные города переполнены, хотя мы и устроили два полевых лагеря. Англичанам объявлена готовность к походу, но, надеюсь, его величество великодушно не соизволит выводить их в поле без крайней необходимости, так как большинство солдат - новобранцы[424].
18 августа Мальборо узнал, что Вильруа отправлен в Италию, совершенно уверился в том, что Франция не предполагает воевать во Фландрии осенью 1701 года, и пригласил Сару приехать в Гаагу, чтобы она разделила с супругом великий день его жизни. Седьмого сентября Мальборо единолично подписал от имени Англии договор с Империей и Нидерландами, где три державы договорились добиваться от Франции исполнения своих условий, действуя переговорами либо оружием. В час триумфа, Сара была рядом с ним. И её чествовало собравшееся по случаю блестящее общество. Она даже приняла приглашение от Калибана из Лоо[425].
Союзники выдвинули весьма умеренные требования. Они готовы были признать Филиппа V королём Испании и Испанских Индий, при условии, что короны Франции и Испании никогда не объединяться в одном лице. Император претендовал на Милан, Неаполь, Сицилию, испанские острова в Средиземном море, Бельгию и Люксембург. Однако, последние два владения, подпав под власть Австрии, должны были получить определённое устройство и стать таким ограждением и бастионом, какое называют обычно рубежом, отделив и оградив Соединённые провинции от Франции. А малые страны для каждой был составлен отдельный договор примкнули к этому базису, ядру альянса, притянутые субсидиями Англии, Голландии, и иными средствами поощрения. Император с неохотой пошёл на признание курфюрста Бранденбурга прусским королём, согласившись ради единства и на такую цену.
Швеция стала особым случаем. В этой маленькой, но крепкой духом северной стране образовалась замечательная военная каста, изумлявшая Европу со времени Густава Адольфа: теперь её возглавлял принц-воин, возродивший в несколько театральной форме образ своего знаменитого предка. Карл XII только что завершил отважную кампанию, исторгнув мир у Дании и Польши и - в поражающем воображение меньшинстве - разбив Россию в сражении под Нарвой. Он и его несгибаемые наёмники прекрасно льстились на восхваления и золото. Мальборо ловко использовал то и другое. Импульсивный и пылкий характер Карла сделал переговоры очень рискованным делом[426]. Со времён Густава Адольфа среди шведов преобладали настроения франкофилии и нелюбви к Австрии. В 1701 году Мальборо добился того же, что повторил впоследствии, в 1707. Он удержал Карла XII с его армией от вмешательства в дела Западной и Центральной Европы. Французы пришли на тот же рынок с внушительными суммами денег; но англичанин взял верх. 26 сентября он писал Годольфину: Сегодня вечером я подписал Шведский договор... Убеждён, что если бы я не сделал этого, они бы приняли французские деньги. Договор подлежал ратификации в шесть недель. Мальборо, с оглядкой на палату общин, намеренно воздерживался от своей подписи под главным договором, равно как и под отдельным англо-голландским соглашением, до тех пор, пока эти документы не получили правительственного одобрения в Англии. В случае со шведами он счёл нужным поспешить, не обратившись даже и к лордам-судьям. Шведский договор открыл дорогу Дании. Датчане, избавленные от опасности, стоявшей у самого их порога, смогли теперь присоединиться к Союзу за соответствующий взнос в 5 000 солдат сразу и 20 000 в дальнейшем. Итак, в то время как французы стягивали войска в Бельгию и Люксембург, против них, в преддверии будущей весны, собиралась армия, набранная и собранная на средства Морских держав - и армия эта быстро прибывала, сходилась под руку своего будущего вождя.
Когда территориальные притязания стали, наконец, согласованы, три принципала перешли к обсуждению вопроса о квотах участия. Переговариваясь попарно, стороны установили, что Империя выставит против Франции 82 000 солдат, Голландия 100 000 и Англия 40 000 вкупе с равным числом людей для флота. Архидиакон Кокс по несчастью обманулся, упустив один ноль в цифре голландской квоты, уменьшив её, тем самым, до 10 000 человек. С тех пор эта обыкновенная ошибка или опечатка слепо копируется многими историками и биографами[427]. И цепь этой ошибки идёт сквозь годы, звено за звеном. Исчерпывающее разъяснение даёт отправленное после заключения договора и не публиковавшееся до настоящего времени письмо Мальборо к Годольфину[428].
Гаага.
6/17 сентября, 1701.
* Полагаю, что ввиду очень неблагоприятного ветра, отправленный мною договор пока к вам не доставлен. Посол императора объявил численность войск от своего монарха, всего сто восемьдесят тысяч, из них, по его обязательствам, и нашим договорённостям, восемьдесят две тысячи будут действовать против Франции; остальные останутся в Венгрии, и в своих гарнизонах. Голландцы выставят около ста тысяч, помимо тех, кто отправятся в море, так что теперь моя очередь говорить за Англию, и - пусть я твёрдо намерен медлить с этим делом до созыва парламента - я, тем не менее, обязан хоть что-то сказать, а значит не обращаясь к лордам-судьям за указаниями должен обратиться за вашим мнением. Король весьма настаивает на том, чтобы я заключил договор с королём Пруссии. Мне придётся отсрочивать исполнение этого поручения всеми способами, имеющимися в моём распоряжении, и я нуждаюсь для того в вашей помощи, будучи убеждён в том, что поступаю к лучшему, что договор не должен получить подписей прежде, чем он станет представлен парламенту; боюсь, мы не сможем избежать одобрения, если пошлём его на рассмотрение лордам-судьям, но я уверен в скором созыве парламента, и надеюсь на вашу помощь в том, чтобы заключение договора было отсрочено до начала заседаний Палаты. С прошлой почтой я послал вам очень длинное письмо с моими соображениями по поводу [роспуска] парламента. Если вы согласитесь с моим мнением, я буду действовать соответственно и, надеюсь, смогу предотвратить неприятности, каких ожидаю от нового состава парламента.
Затем он пишет абзац, странный для человека, попавшего в средоточие фортуны, долго неблаговолившей, а теперь засиявшей ему:
Должен открыться вам - я объят теперь меланхолическими мыслями, и совершенно уверен в том, что никого не порадовала бы выпавшая мне работа. Но, из эгоистического соображения, прошу вас не искать облегчения в отставке, пока я остаюсь здесь, дело это - как и ваше возможное неудовольствие - не затянется надолго, так что прошу вас, во имя нашей дружбы, не принимать решения пока я не увижу вас к своей радости.
Боюсь, что леди Мальборо напрасно задержалась на два дня, так как ветер, до сих пор весьма благоприятный, переменился теперь на восточный
Видно, что Мальборо и прежде опасавшийся за судьбу договора, принятого без парламентских обсуждений, многажды укрепился в тревогах, когда пошла речь о британской квоте. И мы получим самое наглядное представление о силах, действовавших тогда в Англии, обратившись к суждениям этого искушённого человека, к тому, как действовали на него эти силы. С губ хладнокровного, трезвого разумом, водимого фактами Мальборо слетали тогда изъявления изумительного накала: Я предпочту быть похороненным заживо, нежели стать губительным орудием такого несчастья; Помилуй Бог, я скорее умру, чем предприму это фатальное дело. Лорд Уолсли видит здесь признак поворота Мальборо к вигизму. Но говорить так значит совсем не понимать ситуации. Мальборо более размышляет о своих друзьях-тори, нежели о вигах. Он знает, насколько тяжело повернуть тори к войне, с какой готовностью они уцепятся за любое прегрешение против конституции. Виги, при всём их законопочитании, желали войны и не были столь щепетильны. 3 октября он написал Годольфину:
Простите, но я опять беспокою вас, заботясь о квотации. Я воспользовался естественным для Англии аргументом, именно тем, что нам [Англии] предстоят неотвратимо огромные морские расходы. Такой аргумент очень помог мне в переговорах с имперцами, хуже с пенсионариями: последние отвечают, что готовы выделить морские силы в прежней пропорции, три к восьми, как то было в прошлой войне; но теперь предстоит действовать на более протяжённом наземном фронте, а раз так, народ небезосновательно ожидает от нас не меньшего вклада. Я остаюсь при мнении, что мы похороним всё дело, если окончательно договоримся со всеми прежде парламентского обсуждения; но вместе с тем должен им что-то ответить и буду счастлив, если уйду от необходимости убеждать их в том, что не стоит ожидать многого, что они, в лучшем случае, получат половину того, что получили в прошлую войну. Насколько я понимаю, запрашиваемая от нас квота может превысить желания Англии, но я слышу здесь единогласные речи о том, что мы обязаны вести новую войну с лучшей решимостью, если хотим, чтобы она закончилась счастливее прежней; признаюсь, что сам я полностью разделяю это мнение и надеюсь на всевозможную поддержку какую? Здесь лучше судить вам и 16 [Хеджесу?]: вы придумаете много лучше моего. Когда король заговорит с вами об этом предмете, прошу вас высказать то недвусмысленное мнение, что нам [не] стоит предпринимать ничего прежде обсуждения Палатами. Я настаиваю на особом значении квотации, и вижу разрушительную опасность в том, что пенсионарии склонны решить вопрос о квотах до созыва парламента[429].
И, в тот же день Хеджесу, одному из государственных секретарей:
* Не могу перейти к дальнейшему, без некоторого отчёта о своих соображениях по поводу denombrement, и от всей души надеюсь, что мы не разойдёмся во мнениях об этом предмете, чреватом, по моему разумению, непростыми последствиями Граф Ратисло [Вратислав] настаивает на том, что мы должны выставить то же число солдат, что и в последнюю войну, ввиду того, что его суверен готовит большую - если сравнивать с любым временем прошлой войны - армию. Голландцы с куда лучшим основанием, полагают, что союзу придётся очень трудно, если мы выставим намного меньше по сравнению с прошлой войной, с учётом того, что сами они дают больше
После такого предварительного объяснения, хочу уведомить вас о должном способе действия, в каком, смею надеяться, смогу убедить короля, именно: король без всяких умолчаний рассказывает парламенту об обязательствах императора и голландцев, и, сразу же и с полной откровенностью объявляет своё собственное мнение, пояснив, что сам он обязан дать свою квоту 24 ноября по нашему стилю, то есть по истечении двухмесячного срока, указанного в договоре с императором. По моему мнению, прибегнув к такому способу, мы склоним парламент на нашу сторону, и получим больше солдат, нежели возможно будет обрести на иных путях. Если бы я имел возможность встретиться с вами, я сумел бы дать самые пространные объяснения, ибо убеждён, что если король предпочтёт действовать в этом вопросе одной собственной властью, Англия придёт в непреходящее волнение и погубит не только себя, но и свободы Европы: пока наш король будет спорить с парламентом, Франция решит дело просто, установив любые, удобные ей законы. Уверяю вас, что скорее предпочту быть похороненным заживо, нежели стать губительным орудием такого несчастья. Я общаюсь с вами с нестеснённой откровенностью, но прошу держать мои соображения в полной тайне.
И снова, 21-го числа, послание Годольфину:
* Мне совершенно ясно, что Пенсионер остался при том же - прежнем мнении, полагая, что я должен решить вопрос с квотой прежде созыва парламента. Я был с ним так категоричен, что он отчаялся убедить меня, но, боюсь, он надеется, что король, прибыв в Англию, сумеет убедить в том себя, Совет, и пошлёт мне соответствующие приказы, полагая, что тем избавляет меня от затруднений; но уверяю вас в том, что, по моему глубокому убеждению, действуя одной лишь властью его величества, мы навлечём губительные последствия и на самого короля, и на всё королевство, так что сам я предпочту отставку; помилуй Бог, я скорее умру, чем предприму это фатальное дело.
По всей Европе грохотали наковальни военных кузниц, но обе стороны, не уступая и пяди, всё ещё тешились надеждой на мирный исход. Как часто бывает в мировой в особенности английской политике, нужды дня вполне укоренились в умах, но люди медлили с действиями. В атмосфере собрался взрывоопасный газ, но для взрыва не хватало искры.
16 сентября 1701 года скончался Иаков II. Людовик посетил изгнанника, умиравшего в Сен-Жермене. В виду несчастного, кто хрипло выдыхал воздух, собираясь вот-вот выдохнуть душу, великий монарх объявил собравшемуся теневому двору, что признал сына Иакова королём Англии и станет всегда поддерживать его в этом праве. Рыцарство, тщеславие, опрометчивое желание разрешить затянувшуюся неопределённость подвигли Людовика на этот, вполне безрассудный шаг. Он отстоял своё решение вопреки твёрдому сопротивлению Кабинета. Последствия несказанно удивили Людовика. Он дал пощёчину британской независимости, и вслед его речам воспрянула вся Англия. Островитяне прописали очерёдность престолонаследования в недавнем Акте. Рисвикский договор обязал Людовика и в формальных терминах, и как джентльмена признать королём Вильгельма III и более не обращаться к этому вопросу. Французский деспот грубо пренебрёг внутренним законом Англии и изменнически нарушил её права, закреплённые международным договором. Парламентские виги и тори соревновались в хлёстких ответах на оскорбление. Разве мы теперь рабы Франции? Разве Англия теперь страна, где можно назначать королей, с которой можно не церемониться в смысле клятвенных обещаний? Война стала твёрдым решением всей нации. Депутаты шумно одобрили договора Мальборо, составленные и представленные с тонким пониманием парламентских дел, и вотировали короне обильные ассигнования на военные нужды. Король Вильгельм понял, что пришло его время. Тотчас за новостями из Лондона, он отозвал своего парижского посла и выдворил Таллара из Сент-Джеймса. Пришло время освободиться и от торийской партии - от тех, кто дурно использовал суверена; от тех, кто в незрячей недальновидности связал Вильгельму руки, оставив наблюдать, как рушится вся его система. Пришло время, когда все эти свирепые, тупоумные, свиноголовые коммонеры, те, кто совершенно обманулись в воззрениях на общественный интерес, должны были предстать перед судом поднявшейся нации. Король решил, что для энергичного ведения войны нужен парламент со стабильным вигским большинством. В высоких политических кругах и при дворе зашептались о роспуске и новых выборах.
Мальборо внимательно следил за королём. Он понял ход его мыслей; намерения монарха ужаснули его. Выдворение тори посредством пагубных выборов в предвоенной горячке крушило все властные рычаги Мальборо, всё влияние, накопленное им за годы бездействия. Более того, он лучше короля понимал непреходящую силу торийской Англии. У партии Тори, пусть и проигравшей на несчастливых выборах с потерей контроля над парламентом, вполне хватало сил, чтобы обрушить механизм власти в стране. Только партия мира могла удержать меч Англии. Триумф вигов на выборах означал, что на войну пойдёт разделённая нация. Мальборо использовал всё своё искусство, пытаясь увести Вильгельма с неверного, по его мнению, курса. Но король, при всём восхищении способностями своего помощника, увидел в его советах личный мотив и остался при прежнем плане. Тогда Мальборо добился от Годольфина письма с пространным и аргументированным восхвалением торийского парламента, расторопно готового к войне. Он зачитал письмо Вильгельму.
Ваше от 3/14 несказанно удивило меня. Поразительно слышать, что на другом берегу, король не принимает никаких возражений против созыва нового парламента, при том, что всякому понятны и заслуги нынешнего парламента, и то, как его роспуск повлияет на состояние общественных дел. Они - едва поняв, что может разразиться война - провели огромное, небывалое для мирного времени ассигнование на одно лишь возможное участие королевства в войне и обеспечили это ассигнование так хорошо, как никогда прежде, безо всякого дефицита и ближе к окончанию сессии составили королю адрес, к которому, между прочим, король в то время отнёсся с большим сочувствием и сердечно благодарил их за то, что они просили его вступать в Союзы ради блага Европы и уверяли, что будут стоять за него и помогать ему в названных Союзах так, как он сочтёт удобным: из адреса с очевидностью следовало и следует, что парламент сделал короля судьёю в вопросе войны и мира и полностью доверяет ему в этом деле[430].
Но здесь король, так близкий и так откровенный с Мальборо в прочих и важнейших делах, замкнулся и выказал холодность. Годольфин, торийский министр, предполагая скорый свой крах, пожелал уйти в отставку, но Мальборо уговорил его остаться. Сам он предполагал вернуться в Англию вместе с королём, не отпуская его ни на день, но монарх отделался от него. Вильгельм не прислушался к убеждениям. Только сейчас нашёл время сообщить вам Мальборо написал это около 18 сентября что король, садясь в карету, сказал, что будет писать мне, из чего я заключил, что не смогу вырваться отсюда до его распоряжений[431] Вильгельм внезапно покинул Голландию, оставив Мальборо на привязи при делах Альянса. Лишь через несколько недель граф получил усилиями Годольфина и Альбемарля разрешение вернуться домой. И разрешение короля пришло к Мальборо в один день с новостями о роспуске парламента и добровольной отставке Годольфина.
Но ещё до отъезда Вильгельма возникли и другие беспокойства, судя по всему немалые и связанные с церемониями по случаю кончины короля Иакова.
Лоо.
16/17 сентября 1701.
* Король только что заметил мне и дал распоряжение о траурных церемониях, велев написать принцессе, что сам собирается нести траур по королю Иакову, но ограничится своими каретами, ливрейными, не станет обряжать в траур апартаменты и желает, чтобы принцесса сделала так же, то есть обошлась бы без траура в Сент-Джеймсе; и если она намеревалась сделать иначе, то, как вы понимаете, этого не должно случиться. Прежде всего, извольте выразить её высочеству изъявления моей покорной преданности; затем мою нижайшую просьбу о том, чтобы вам было позволено устроить дело так, как угодно королю; последствием станет то, что вся Англия одобрит поведение её высочества. Ведь если она устроит траур в своём доме, одному Богу известно, какой шум поднимется в Англии[432].
Выборы обманули надежду Вильгельма. Компания его персональных обидчиков и многие якобиты потеряли кресла под вигской атакой, но тори, как и предсказывал Мальборо, сохранили очень прочную позицию в Общинах. Они вернули Харли на место спикера большинством в четыре голоса. Две партии настолько уравнялись в представительстве, что, при всей ненависти, едва ли могли драться в расчёте на победу. Это обстоятельство стало некоторым выигрышем, но, с другой стороны, тори воспылали к королю лютой ненавистью. После того, как они оказали суверену самую верную и решительную поддержку, всего через год после того, как они вернули себе большинство в Палате, монарх, бесчестно, как они полагали, - заточил их в провинции. Он попытался обыграть их на партийном поле, но трюк провалился. Они никогда не простили его; они жаждали его смерти. Тем не менее, в том, что касалось войны, тори выступали солидарно с вигами.
Поворот политических дел существенно сказался на положении Мальборо. Невзирая на прошение Годольфина об отставке, король удерживал торийских министров на постах, пока не убедился в исходе выборов. С точки зрения Мальборо, такая полумера была ошибкой, поскольку партия у власти сильно влияет на подачу голосов. Узнав о результате, король почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выгнать ториев. Он уволил Рочестера и дал ход отставке Годольфина. Теперь Мальборо оказался в положении деятеля, чьи коллеги отставлены, но сам он избежал их судьбы в силу важного задания заграницей, при работе, к которой, по мнению всех партий, был готов, как никто другой. Более того: пусть Мальборо во всём соотносился с интересами тори, не отходя от их целей, он, на деле, стал главным проводником провигской европейской политики. Итак, обе партии ценили его, понимая, пусть и с недовольством, что этот человек стоит над партийной схваткой. Так вышло не из-за дальних расчётов Мальборо ход событий зачастую не отвечал его желаниям, и, по большей части, шёл помимо его контроля. Партийные адепты ни в чём не упрекали Мальборо, но обстоятельства оторвали его от соратников и оставили независимым распорядителем в самом центре власти. С этого времени он постепенно становится внепартийным человеком торийского оттенка. Мы обязательно расскажем, как Мальборо долго и трудно удерживался на нейтральной позиции пока, постепенно, не стал подвинут к вигам, и вслед за тем уничтожен мстительными ториями.
Пока же, он действовал очень аккуратно. Давенант, прежде профранцузский торийский памфлетист, уловил движение воды и стал убеждать людей в том, что всем стоит отбросить партийные пристрастия во имя общественного блага и ввиду общего врага. Ещё до отъезда из Гааги Мальборо писал Бриджесу, восхваляя сатиру Давенанта[433], выражая надежду, что тот сумеет подвигнуть народ к нужным теперь мерам против Франции. 27 января голландский посол в Англии отмечает силу Тори в новой Палате, ссылаясь на то, как были встречены Мальборо, Годольфин и адмирал Рук на партийной встрече в доме сэра Эдварда Сеймура. Но через три дня он говорит о Мальборо так: Не имея больше поддержки в Совете ни от Рочестера, ни от Годольфина, ему приходиться с изощрённейшим искусством лавировать между сторонами[434]. Но при всех переменах в правительстве, Мальборо остался королевским уполномоченным в иностранных делах Англии: до нас дошли две его беседы с Вратиславом, послом Австрии.
Парламент по торийской инициативе попросил короля предпринять нужное, чтобы в договор о Великом союзе вошла статья следующего смысла: никакого мира с Францией, пока король и народ не получат удовлетворения за великое оскорбление, понесённое от французского монарха, кто признал и объявил ложного принца Уэльского королём Англии, Шотландии и Ирландии. Мальборо, по желанию короля, начал переговоры с Вратиславом.
Вратислав сказал, что в специальной статье предлагаемого содержания нет необходимости, поскольку император обязался действовать в названном смысле тем, что вошёл в Союз. Мальборо ответил, что этого недостаточно. Отдельная статья необходима, чтобы Англия вошла в войну как сторона с самостоятельным интересом. Согласие с мнением императора ставит Англию в положение обязанной стороны, наводит на то рассуждение, что от императора зависит её благополучие. Обязанной императору становится и принцесса Анна, и таковое обязательство может вынудить её - если король умрёт во время войны - действовать всеми государственными средствами к выгоде императора. Вратислав парировал тем, что французская дипломатия воспользуется подобной статьёй чтобы рассорить императора с Папой и всеми католическими державами. Мальборо ответил, что вопрос никак не касается религии. Престолонаследование в Англии определено с некоторых пор законом; так что император связывает себя одним лишь согласием с тем, что Франции не дозволено нарушать законы Англии. Необходимо постараться, чтобы формулировки статьи никак не затрагивали вопросов религии[435].
В конечном счёте, стороны пришли к соглашению.
19 февраля Вратислав провёл долгий разговор с Вильгельмом III, оставшись в недоумении. На следующий день он конфиденциально попросил Мальборо дать внятное объяснение тому, что тревожит короля.
Мальборо сказал: Короля весьма обеспокоит то возможное развитие событий, когда французы в полную силу ударят по Голландии. И он желает, чтобы все стороны действовали с решительностью: так, чтобы вдохновлённая республика была готова и впредь нести свою тяжёлую ношу. Тем самым я категорически не советую отправлять подкреплений в Неаполь. Но если этого нельзя избежать, скажу вам строго конфиденциально, без оглядки на короля не пренебрегайте подкреплениями для армии принца Евгения. При широком взгляде на вещи, проигрыш нескольких сражений причинит королю меньший вред, нежели поражение принца Евгения. Если подкрепления [для принца Евгения] станут взяты из вспомогательных войск, у короля не будет причин для жалобы. Но его непременным требованием остаётся присутствие действенных имперских сил на Рейне, что даст двоякую уверенность: в том, что король Священной Римской империи (Иосиф) обязательно выйдет на войну и в том, что хозяин в Империи он император а не германские князья[436].
Примечательный совет. Мальборо знает едва ли ни с полной определённостью, что станет командующим на севере, и в то же самое время признаёт своё поражение менее вредным для Союза, нежели крах принца Евгения на юге, и, не колеблясь, ослабляет главный театр в угоду общим военным соображениям.
Из того, что осталось нам, мы можем получить ещё одно впечатление о Мальборо в преддверии уготованной ему власти. Средоточие многих нитей и средств в руках одного человека известных способностей и амбиций отозвалось острой ревностью в кругах гордого вельможества; все понимали, что после смерти короля и восшествия Анны этот человек Мальборо окажется истинным хозяином Англии. Тори отнеслись к этому без антипатии. Они полагали, что Мальборо останется под их партийным влиянием. Виги тревожились по той же самой причине. Пусть Мальборо разделял их взгляды на внешнюю политику, пусть его супруга была пылким вигом, пусть оставались надежды на обращение Мальборо усилиями Сандерленда и всё же, виги, предполагая восхождение Мальборо к верховному управлению делами, расценивали это не иначе, как триумф торийского руководителя на службе у торийской королевы. Некоторые их лидеры носились с идеей обойти Анну, и сразу возвести на трон ганноверского электора. Герцоги Болтон и Ньюкасл настоятельно втягивали в заговор лорда Дартмута. Мальборо, располагая множеством информаторов, узнал об этом. Он задал вопросы Дартмуту, сыну своего старого друга Легга: тот ответил, что знает о таком плане, но не воспринимает его всерьёз. Мальборо объявил, что налицо заговор и воскликнул в несвойственной ему яростной вспышке: Но, богом клянусь, пусть они только попробуют мы им кишки выпустим![437]. Нетрудно понять причину жестокого, необычного для Мальборо высказывания. Он оказался в обстоятельствах, когда, не колеблясь, бросил бы против такого замысла и армию, и торийскую партию; и он захотел, чтобы его намерения стали отчётливо поняты. До долгожданной награды осталось рукой подать, и Мальборо никак не хотел упустить её.
Второй Великий союз рождался на глазах людей, ожесточённых восьмилетней военной неудачливостью Вильгельма, и должен был казаться им безнадёжной затеей. Сколь тщетны стали усилия той борьбы! С какими трудами удалось получить некоторое преимущество над мощной центральной державой Францией! И весь горький труд остался без награды. Франция, сражаясь в одиночку, побила Европу и вышла из войны пусть изнурённая, но в целости. За шесть лет мира Париж сумел, без единого выстрела, заполучить все упрямо оспариваемые крепости и территории. Теперь же обширнейшая империя мира со всеми её ресурсами отошла от Союза и передалась антагонистам. Испания переменила сторону, а Испания тех лет это не только Индии, Южная Америка и вся Италия, но арена всех европейских боёв, предмет споров Бельгия и Люксембург и даже Португалия. Савойя, прежний дезертир, осталась с Францией. Кёльн также пошёл за Людовиком. Бавария оставалась верной Союзу до самого конца последней войны, но примкнула к Франции в преддверии следующей. Морские державы едва ли могли найти дружественный порт вне собственных берегов. Новый Свет стал для них почти недоступен. Средиземное море, по сути, превратилось во французское озеро. Южнее Плимута, у них не осталось ни одной укреплённой гавани. У них был превосходящий флот, но ни одной базы вне территориальных вод. На суше голландский барьер полностью перешёл во французские руки. Прежний бастион Голландии стал французской базой для вылазок. Людовик, оккупировав Кёльнское и Трирское архиепископства, господствовал на Маасе и Нижнем Рейне. Он держал все порты Канала и окопался по линии Намюр Антверпен море. Его армии растянулись по землям восточнее Мааса до голландской границы. Зимняя дислокация войск французского короля показывала, какими станут его планы на весеннюю кампанию: вторжение в Голландию теми путями, что едва ни привели Людовика к полному завоеванию страны в 1672 году. Линия крепостей, переполненных войсками и припасами, грозно щерилась орудиями. Всё указывало на скорое наступление. Голландцы прикрылись оставшимися крепостями и затопленными местностями. Наконец, переход Баварии на сторону Франции открыл Людовику путь к самому сердцу Империи. В Венгрии не утихала революция, турки готовились к очередному натиску. К началу Войны за испанское наследство, Людовик стал вдвое сильнее, чем был к заключению Рисвикского мира, и сила его проявлялась во всех элементах стратегии, морской и сухопутной; в размерах территории, в численности населения. Отметим ещё одну неприятную перемену. Теперь переменил сторону и Папа. Клемент XI отошёл от политики Инносента XI. Он поддержал Великого короля. Он послал приветствие Филиппу V и выделил последнему субсидию из церковного имущества Испании. Он пресмыкался, замаливая прошлую ошибку. И новая война стала решена гением одного человека. Воля единственной персоны перевесила вопиющее неравенство сторон, создав из уполовиненных, побитых фрагментов вильгельмова наследства превосходную организацию, что шла от успеха к успеху под руководством Англии.
Вся политическая история Войны за испанское наследство суммируется в дебатах английского парламента, в совещаниях английских министров, в полномочиях английских послов, в ежедневных распоряжениях английского генерала[438].
Теперь вмешался герой многих энтузиастических застольных тостов: Маленький джентльмен в чёрном бархате. 20 февраля, на следующий день после беседы с Вратиславом, на конной прогулке около Хемптон Корта любимая лошадь Вильгельма, Соррель[439] - говорят, принадлежавшая прежде сэру Джону Фенвику сбросила короля, споткнувшись на свежей кротовине. Поломанная ключица могла бы срастись, но инцидент пробил в расшатанном здоровье монарха брешь, куда ринулись потаённые прежде болезни. Пошли осложнения, и через две недели король лежал уже при смерти: он понял это сам, поняло и всё его окружение. Вильгельм вёл дела до последнего вздоха. Живой интерес к мировой драме в расставленных им декорациях, в час, когда занавес готов был подняться, освещал его сознание отгоняя сумерки смерти. Он читал рапорты о комплектовании армий, и работал с двумя своими парламентами. Он горевал, что должен оставить задумки и комбинации, пущенные теперь в ход - главное дело своей жизни. Наступала кровавая кульминация. Но он должен был уйти. Мистер Доблестный получил свою повестку. Меч мой отдайте тому, кто продолжит мой пилигримаж, а храбрость мою и умения мои тому, кто сможет их унаследовать. А шрамы и раны я забираю с собой, чтобы они свидетельствовали о моих боях за Него - того, кто вскоре воздаст мне по заслугам.[440] И он уходил с утешением. Он, прозорливый человек, видел, что при следующем царствовании новое правительство Англии продолжит дело, стоившее ему всех жизненных сил. Он понимал, кому должен оставить страшную, но неизбежную к исполнению задачу; он знал единственного человека, кому под силу и по уму военная и политическая работа, запутанные извивы европейской дипломатии, кто сделает дело в партийной английской суматохе и на полях сражений. Он взвесил всё и передал управление новому защитнику протестантизма и европейских свобод. За последние годы, Мальборо стараниями Вильгельма стал частью переплетения королевских комбинаций и политики. В последние часы он аттестовал Мальборо своей преемнице как лучшего в королевстве полководца и мужа совета. Потом пятидесятидвухлетний, изношенный трудами Вильгельм опочил, и для Мальборо началось славное жизненное десятилетие, время его непревзойдённых побед о них, главным образом, и пойдёт рассказ в следующих главах.

[Оригинал хранится в Бленхейме, надписан герцогиней Мальборо: Извлечено из моих документов епископом Солсбери, нехорошо сделано. Приложить к прочим бумагам на хранении.
Приписка архидиакона Кокса: Впоследствии изменено, и расширено мистером Сен-Пристом, кто сопровождал герцога заграницей, и был нанят герцогиней для разбора её документов. Его рекомендовал доктор Хеар. Часть первоначального черновика, переданная мистеру Уолполу в 1711 или 12, приведена в порядок, и исправлена мистером Менуорингом.
Некоторое обозрение упомянутых черновых документов можно найти во введении к Воспоминаниям Сары, герцогини Мальборо под редакцией Уильяма Кинга (1930). Рукопись Сен-Приста хранится в Бленхейме, копия в Британском музее. Различные иные черновики также хранятся в Бленхейме. Нижеследующий текст лишь введение. Все события, упомянутые в тексте, фигурируют - с соотносительно большим или меньшим значением - в опубликованной версии Оправдания Сары.]
На писание книг смотрят как на дело несовместное с нашим полом: и если некоторые из нас отлично в том преуспели, иные слишком выставляют себя, дабы поощрить женщин к авторству: мне же непривычно писать во многих подробностях, но именно так, боюсь, и придётся делать, рассказывая собственную историю, в особенности в тех местах, где тень ляжет на привычно уважаемых персон; но так как я по счастью оставляю потомство, отмеченное знатностью, богатством, и могущее разветвиться на множество семей, я некоторым образом обязана поведать им, какими принципами и мерилами руководствовалась, пользуясь фавором, какому можно лишь позавидовать, а пользовалась я им двадцать лет, единолично и без соперников; и равным образом поведаю им, почему и как я потеряла это положение.
Я всегда и вполне понимала неопределённость своего положения, но признаюсь, что никогда не чаяла большой для себя угрозы - в особенности от персоны, подведшей под меня подкоп; я всецело полагалась на собственную прозорливость и осторожность, полагая, что при повороте фортуны, я уйду спокойно, будучи благопристойно отставленной; но пала совсем иначе; со мной поступили совсем не по заслугам, меня преследовали с великими злобой, вероломством и клеветами; многие газеты и книги поминали меня со всем ядом и несправедливостью, а я принимала и переносила всё с терпением - в молчании и с достоинством; думаю, что многие, видя мою внезапную покорность пред таковыми, неутомимо долгими злобными излияниями, воображали, что я виновна именно так, как выставляли меня враги. Я долго молчала под гонениями: благонамеренность подданной наравне с достоинством супруги и матери имеют надо мной великую власть, и я стерпела то, что вряд ли приняла бы в молчании в иное время моей жизни.
Но я пишу это не лишь в собственных интересах: мною, в особенности, движут интересы всего моего потомства, они должны знать, как мало заслужила я образину, напяленную на меня с такой непререкаемостью словно те, кто бесчестили меня, имели на руках достовернейшие свидетельства; пусть с опозданием, но я решилась ответить и дам собственные свидетельства всему, что скажу в своё оправдание, и если открою то недоброе, что доселе предпочитали держать под спудом, опасаясь дурных толкований, виною тому те, кто, не довольствуясь одной лишь несправедливостью, напустили на меня множество наёмных писак; выгнали с шумом; бесчестили, возглашая о том, что я обокрала и королеву и нацию; что я плохо служила да что там, погрязла в весьма скверных замыслах против Власти и Церкви, Страны и Престола. И пишу я не только с целью самооправдания, не лишь для того, чтобы рассказать правду собственной жизни, чтобы очистить себя свидетельствами, чтобы оправдать своё поведение: пишу я с дальнейшей целью научить других, кто смогут научиться на моём примере. Я впитала любовь к своей стране с молоком матери, я возненавидела тиранию прежде, чем научилась грамоте, я верю, что всякий рождается свободным, что князьям предписано нести народу счастие; я постоянно и всегда отторгала рабство, низкопоклонство; равным образом и прежде, чем глянула впервые в священную книгу я ненавидела папизм: и я всегда полагала, что наилучшее служение принцам это служение честное и верное и надо - что бы ни случилось - всегда говорить с ними без подхалимства и притворства: такова я по своей природе и корни мои со временем взошли принципами; я ненавидела подхалимов, как людей, кто, привыкши ублажать принца, предали его; в Бога я веровала равным образом, думая теми же мыслями о Господе Всемогущем, о правде, справедливости, чистоте, о добродетелях, о милосердии всех лучших качествах верующего человека; но видела тех, кто, никак с тем не сообразовываясь, постоянно ходили и к священникам, и к причастию, и были в отношении веры такими же людьми, какими стали для принца придворные предатели, обесчестившие двор. Получив изрядный даже и по моим годам опыт, я полагаю, что не возьму на душу большого греха, дав миру развлечься воспоминаниями о моей жизни, рассказом откровенным, без тени лицемерия; некоторые места потребуют иных доказательств, нежели одни мои слова, и я приведу таковые доказательства, дабы не застить и тенью сомнения правду того откровения, что прозвучит в моей истории. И не желая тревожить мир нескромностями, я ограничусь лишь тем, что годно к опубликованию, может быть оглашено, послужит иным к научению и пользе.
Я была совсем юной, когда стала придворной, и счастливо пользовалась симпатиями многих, но более всего - королевы, находившей такое удовольствие в моём обществе, что, сильно желая иметь меня при себе и после замужества, одержала верх над отцом, выговорив мне должность королевской фрейлины. Двор её был так странно составлен, что моё, первое при ней положение, не казалось мне чем-то удивительным, равно как и её доверие ко мне, возросшее до степени присущей тем, кто пылко влюблён и заботлив; ничто не стояло на моём пути, всё было мне по плечу. Я полагала (все думали так же) что, как никто другой, надолго защищена таковым изумительным фавором. И, получив этот аванс, я стала размышлять, как надлежит действовать, чтобы заслужить и отработать его. Я положила для себя главным правилом служить ей с совершеннейшей преданностью и с постоянным рвением. Но я понимала под преданностью не только то, что не стану обманывать её, не раскрою её секретов, но абсолютную пред нею правдивость во всём, что станет мне доверено; затем, ничего похожего на притворство и подхалимство, даже если мне и придётся расстроить её; я твёрдо знала, что подхалимство губит князей, и полагала под подхалимством даже и умалчивание любого рода во благо, из боязни огорчить её. Я видела, как бедный король Иаков пал оттого, что никто не сумел честно рассказать ему об опасности, пока не стало слишком поздно: и молчали они из боязни огорчить его. Итак, я решила говорить обо всём, что, по моему разумению, полагалось знать той, которой я служу со всей любовью и преданностью. И однажды я решила, что прямота моя станет ей так же угодна, как была угодна долгие годы. Тогда, честно облегчив перед ней свою совесть, я могла бы и умолкнуть, найдя отличное самооправдание в том, что не добилась бы затем ничего, кроме потери её благоволения: но я служила ей с таким рвением, преследуя истинные её интересы, что не сумела ни удерживаться, ни удержаться в каких-то границах. Признаюсь, что усердие моё коренилось и в иных причинах. Я не могла знать, какие шли дела, и какие доверенные персоны оказались вовлечены в реставрацию Претендента, но знала, что кончится это крушением страны или - во избежание такого конца - потрясениями, что стали бы чреваты, как я могла предвидеть, страшными последствиями для лорда Мальборо и его семейства. Тем самым, я действовала с намерением предотвратить такой исход со стараниями, самыми честными, хотя, временами, как то видится теперь, чрезмерно пылкими и рьяными; по этой причине кредит доверия ко мне постоянно падал, и началось это задолго до того, как я стала подозревать о тайном недруге, кто под личиной верности предавал меня так, что я стала обречена прежде, чем распознала его. Ведь я была не только честна, но открыта и откровенна до оплошности, я не умела ни обманывать, ни притворяться ни с кем; и я придерживалась одинаково хороших мнений обо всех тех, кто на деле работали против моих интересов; я полагала, что высокое положение хранит меня; я спасала целые семьи от нищеты и разорения, вовсе не предполагая, что в мире есть место таким обманам и неблагодарностям, какие однажды обнаружила в них. Я долго видела в своём восходящем фаворе, деле рук моих, источник тайного удовлетворения, когда, однажды, поняла, что привела к королеве ту, кто стала персоной весьма угодной королеве. Но такая же угодность была первоосновой и орудием собственного моего благоденствия: в своё время и в самое опасное время я твёрдо решилась остаться при таковом принципе и, претерпев от того многое, незатруднительно, в дальнейшем, управлялась со всем остальным. Моя неуклонная приверженность интересам принцессы, в деле с парламентским о ней актом в прошлое царствование, шла против мнения многих, советовавших вопреки, и стала неподражаемым примером выражения моей преданности. И поступив именно так, я не только потеряла расположение короля и королевы, кто вполне могли бы пережить её, но дала важное основание к унижению лорда Мальборо и ко всему тому, что воспоследовало в дальнейшие годы и надолго. Небеспочвенно предполагаю, что могла бы тогда втереться в доверие королевы Марии, да и любой персоны при дворе, и совершенно уверена в том, что если бы я привела принцессу к полному подчинению её величеству, никто не отказал бы мне ни в одной просьбе за себя или за мою семью; но я скорее пожертвовала бы своей жизнью и жизнями близких, нежели стала бы советовать (теперешней) королеве нечто, негодное для неё или неподобающее ей по моему соображению. Не стану распространяться здесь долее, поскольку я, обратившись к миру, изложила всё об этом деле в отдельном отчёте, детальном и совершенно беспристрастном. Меня хулили, толкуя о тайном извлечении огромных выгод из благорасположения принцессы, и затем после её взошествия на престол - королевы; нетрудно понять, что неудивительное для меня обыкновение всех придворных фаворитов с лёгкостью приписали мне самой, но я не получала от королевы тогда она была принцессой ничего свыше 1 000 фунтов в год; ещё она помогла мне 10 000 фунтами к свадьбам двух старших моих дочерей, и я заявляю, что вопреки обыкновенным после потери мною фавора толкам тех, кто безудержно упражнялись в злобе, и коим легко верили, истинная правда состоит в том, что я никогда не продавала королевского благоволения, и не имела никаких выгод от тех назначений и пенсий, какие обещала всяким, во всё время пока оставалась фавориткой. Здесь я вызываю на спор весь свет. Я с огромной благодарностью принимала все дарованные королевой назначения, но когда она предложила мне 2 000 фунтов в год, помимо разрешения на расходы из личных королевских сумм, я сочла верным извиниться и отказаться. Когда принцесса стала королевой, я не жалея трудов разработала наилучшее устройство для штата фрейлин, набрав лишь тех, кто, по моему мнению, способны были к наилучшей службе, безо всякой оглядки на иные соображения. Заведуя гардеробом, я, по любой возможности, экономила деньги королевы, для чего платила точно в срок, безо всяких скидок, без процента при расчётах, что было обычной практикой всех придворных служб. Верно, что таковой порядок расчётов навлёк на меня сильное негодование: при прошлом царствовании двор оплачивал закупленные вещи крайне нерегулярно, так что поставщики удваивали и утраивали цены, готовясь к многолетним задержкам с выплатами за свой товар, но я полагала, что если королева платит регулярно, ей нет нужды переплачивать. Я видела, что королева склонна к большим тратам, и всегда готова платить, но никогда не оплачивала своих счетов за её счёт. В том, что касается личных сумм королевы, я, что признают и злейшие мои враги, управлялась с большим мастерством, и пусть эти расходы проходят безотчётно, я готова представить для самого тщательного изучения свой собственный отчёт; ведь я, с самого начала службы, словно предугадав дальнейшее, руководствовалась счастливой мыслью, отбирая подписи у королевы при всех тратах по её запросам; я, равным образом, оставалась в стороне от любых перепродаж королевского фавора, от всякого подобного жульничества; я непременно старалась открывать таковое мошенничество в иных, но сама не замешана ни в одном предприятии такого сорта. Я слышала многие обвинения в том, что очень нерадиво прислуживала королеве, что очень редко бывала около неё, так что особо расскажу о причинах такового поведения, столь несовместного с обыкновением фаворитов. В первые времена замужества, когда незавидность нашего положения требовала изрядной бережливости, лорд Мальборо, весьма экономный по своей натуре, но движимый снисходительной добротой, так характерной для него, не сумел вести дела сообразно нашим обстоятельствам, и обязал меня заведовать бытом семьи. Затем, скажу, что отдавала много сил обучению детей; помимо всяких дел, у меня были и горячо любимые друзья, и я проводила среди них много времени. Я пребывала в уверенности, что не упускала ни одной возможности послужить королеве любую службу, и никогда не уклонялась, когда для того представлялся любой случай. Королева, будучи ещё принцессой, была настолько удовлетворена моей службой, что предоставила мне за то полную свободу. А после коронации я уже не могла изменить образ своего поведения: ведь это выглядело бы так, словно я опасаюсь её обмана или недоверия; я люблю свободу во всём, не могу пойти ни на никакие ограничения своей вольности, и, зная, что служу королеве во всю меру неизменных несмотря ни на что рвения и преданности, полагала, что назойливое приглядывание паче прочего усугубит перемены, какие я со временем почувствовала в ней и иных приближенных и доверенных лицах; я не имела подобных замыслов, но если бы и подумала об этом, то непременно выбрала бы исполнителем ту самую личность, кто как раз и выжила меня. Если бы я привела её ко двору как шпиона, для того, чтобы она - персона, коей я небезосновательно доверяла - присматривала за королевой, я испытала бы горькое разочарование, но так как я приветила её из одних лишь дружелюбия и сострадания, и безо всяких иных мыслей, я едва ли повинна в её промахах, и не стоит кивать на меня за её огрехи; говоря о ней, не могу не вспомнить ещё об одном: многие враги и некоторые друзья приписывают мне неотзвычивость к просителям и частые отказы; также и то, что мы не жили открытым домом и на широкую ногу, как жили другие фавориты, но им стоит подумать о толпах докучливых просителей: королева непременно направляла их ко мне; я, между тем, знала, что просители пенсионов не имели успеха, так как лорд Годольфин объявил королеве предел денежных выдач, выразив надежду, что он не будет превышен в военное время; так что не стоит удивляться тому, что я научилась уклоняться от просьб, и отказывать многим просителям. Им стоит подумать о наших с лордом Мальборо детях, коих мы нежно любили, и, что совершенно естественно, и я и лорд Мальборо желали вольготно жить при наших детях в нашем доме, принимая немногих друзей; я совершенно одобряю тех, кто отторгают привычку к обширным застольям с разношёрстными визитёрами всякого роду и племени и лорд Годольфин, кто был так близок нам обоим как друг и соратник, также как и мы ненавидел трапезничать в такой толпе вокруг нас при всём том, что мы [вычеркнуто в копии герцогини]. Я всегда была к услугам любого, оказавшегося в несчастье; привечала людей с истинными заслугами и обоснованными притязаниями, но невозможно было выслушать всех жалобщиков и угодить всем; я не выслушивала тех, для кого не намеревалась ничего делать и не давала невыполнимых обещаний. Я упомянула здесь о многих и важных предметах, чтобы помочь читателю в лучшем понимании дальнейшего, начатого мною повествования: об использовании мною фавора, коим я так долго наслаждалась, о способах и людях, лишивших меня положения всё это появится в истории, которую я решилась написать. Позволю заключить это своего рода предисловие некоторыми раздумьями о том, что случилось со мною. Я испытываю несказанное душевное удовольствие, думая о том, с какой искренностью и доподлинной привязанностью я служила королеве; о том, какой свободой пользовалась, когда была при ней. Она часто обвиняла меня в своеволии и, зачастую, грозила наказаниями, никогда не наказывая, но затем любила меня за то крепче прежнего. И если я повинна в том, что не любила её со всем нежным участием, я могу утешиться тем, что делала достаточно и что совесть моя чиста; возможно, я вела себя слишком рьяно и напористо в делах, шедших вразрез с желаниями королевы, но действуя так не руководствовалась собственными планами и не искала собственных выгод, а только служила королеве, оберегая её: и пусть временами я заходила слишком далеко, я вспоминаю о том времени с непререкаемым спокойствием, поскольку была истинным другом, верным в священных обещаниях, а если бы пользовалась выгодами своего личного и замечательного положения в политических целях, то проклинала бы себя, жила бы в постоянном беспокойстве, под неизменными давлениями. Возможно, некоторые сочтут, что я чрезмерно протестовала, обнаружив, что фавор ушёл от меня к иной персоне, и я не отрицаю, что пришла в сильнейшее негодование, открыв всю наготу бесчестья той личности, кто была обязана мне сильнее всякого в целом свете, кто не имела никакого повода ни в малейшей с моей стороны обиде для причинённого мне вреда. И если бы она остановилась, достигши одного личного благополучия, я перенесла бы всё куда легче, но, признаюсь, негодование моё воспламенело, когда она передалась в руки мистера Харли, став орудием последнего, а тот, после нескольких лет полного доверия со стороны лорда Мальборо и лорда Годольфина подвёл под них подкоп, поступив так же, как моя кузина поступила со мною, и всё это случилось в то критическое время, когда дела всей Европы зависели от Англии, когда никто не мог предположить, что эти предприимчивые люди, создав комбинацию, сумеют опрокинуть всё, что было достигнуто за долгие годы ценою обильного кровопролития и огромных расходов. Это изрядно распалило меня. Возможно, я перестаралась в настояниях о сохранении за мною покоев в Кенсингтоне, тем более, что никогда не пользовалась ими; наверное, если бы случившееся случилось в любое иное время, с любыми иными людьми, я не стала бы так цепляться за эти покои. И пусть мои друзья полагают, что я действовала в этом с чрезмерной напористостью, я извиню их за эти и все другие нарекания, если они признают за мной неколебимую верность и бескорыстную преданность во всём, что касалось королевы, её народа, престола, протестантского престолонаследования. И пусть я не была лукавым и ловким фаворитом, но я вела себя честно и преданно. И если в последние годы я несколько утратила прилежание на службе, причиною было то, что королева совершенно переменилась ко мне, став совсем не той, что прежде; признаюсь, что не смогу в этом ни открыться, ни слукавить, но вот что скажу откровенно, по чести и с чистой совестью: я пребываю теперь в полном душевном спокойствии - борьба, о коей я не могу выразиться, окончена. Я могу признать допущенные мною ошибки, я могу откровенно выносить суждения о других, зная, что могу с равной взаимностью любить тех, кто, верю, любили меня, поскольку они были вполне откровенны со мной, когда я поощряла их к этому. Но прежде всего совесть моя чиста и это помогает мне; теперь мне легко наедине с собою и в отношениях с другими: мне только жаль, что им пришлось играть роли, к каким меня не принудило бы ничто на свете. Я сожалею об этом, и сердечно молюсь за них. Я остаюсь на путях прямоты и правды, что удержат меня пусть и не при дворе, но пред лицом Господа, кто видит сокровенную правду, к кому я обращаюсь со смиренной верою. К нему я взываю, ибо ему ведомы чистота моего сердца и чистота рук моих. Теперь, уйдя от суеты придворного присутствия и занятий, я обращаюсь к нему. Я всё более и более отдаюсь истинной вере, не мыслю себя вне её форм и обрядов, вне её власти; именно вера определяет мои мысли и поступки; никакие павлиньи перья не обманут Бога и я верю, что если стану служить ему с той преданностью и страстью, с какими я привыкла служить королеве, он никогда не отринет меня, не оставит, не дозволит врагам моим возобладать надо мной, и тем я заканчиваю это вступление.
[Написано Сарой, герцогиней Мальборо. Оригиналом располагает граф Спенсер].
Я решила передать материалы, находящиеся в моём распоряжении, джентльменам, собравшимся писать историю герцога Мальборо. (Это мистер Гловер и мистер Малле). Им потребуется немало времени для одного лишь разбора и чтения бумаг. (И эти джентльмены, получив одобрение моих душеприказчиков и графа Честерфилда, справятся с работой наискорейшим образом, в полную меру усердия). Помнится, читала я труд некоторого знаменитого автора, и хочу, чтобы так же стала написана и история герцога Мальборо, и чтобы начиналась она в том же стиле: Я написал историю герцога Мальборо. И я желаю, чтобы и дальнейшее изложение шло в том же духе: истории этой не нужны цветистости, но простые, не приукрашенные факты. Думаю, надо по общепринятому обыкновению сказать, что он сын сэра Уинстона Черчилля, джентльмена из Дорсетшира. Не знаю, нужно или необходимо включить в историю то, что я полагаю его заслугой: сэр Уинстон Черчилль, его отец, пользовался годовым доходом в 1 000 фунтов или около того от своего отца, а тот любил внука сильнее собственного сына и распорядился, о том чтобы отец пользовался названным доходом лишь пожизненно. Но герцог Мальборо, будучи тогда лишь двадцати восьми лет от роду, объединился с отцом, погрязшим в долгах, и позволил тому продать свою долю поместья. С самых ранних лет он не тратил ни шиллинга сверх того, что зарабатывал. Он начал службу армейским энсином, это было первое его звание, а потом по всем правилам прошёл по всем ступеням своей профессии: и во времена короля Карла Второго служил во Франции под маршалом Тюренном, у которого многому научился. И, думаю, куда больше чести подняться с низшего звания до самого высокого, нежели, по современной моде, стать одним из тех адмиралов, кто видели воду лишь в Бейсоне, или одним из тех генералов, кто не видели ни одного сражения; и считают, что человек благородной натуры, вроде их самих, никак не должен преследовать убегающего врага. Что до образа действий герцога Мальборо, вы найдёте полные о них сведения в тех бумагах, какие я передам вам в работу и во всех отчётах о расходах на войну королевы Анны. И вы сможете с лёгкостью сравнить суммы издержек на ту, весьма успешную войну, и расходы на войну нынешнюю, ведомую людьми великих знаний и благородства: при том, что теперь-то народ платит им сполна, и нет у них никаких причин для жалоб. Герцог Мальборо был свободен от всякого тщеславия, и, тем не менее, провёл многие годы на высочайших постах, оставив обширное состояние: неудивительно, ибо жил он долго и никогда не бросал денег на ветер. И деньги его долгие годы давали по шести процентов. И я сама слышала, как он торжественно клялся - хотя мне были ни к чему такие клятвы - в том, что за всё царствование королевы Анны, пока она так благоволила ему, он не продал никому ни одного повышения в звании, ни одного титула или чего-то подобного. Он был весьма отзывчив по своей натуре, и тем, кто были долго знакомы с ним, он помогал личными деньгами, если те были бедны, пусть даже и придерживались разных с ним взглядов. Я живой тому свидетель: когда он был заграницей, я, по его распоряжению, выплачивала некоторые пенсионы, и имею о том расписки от получателей средств. Он, с невообразимой скорбью, покинул короля Иакова, понимая, что тот не устоит перед выбором и с неизбежностью установит на руинах Англии папизм и дискреционную власть. И я искренне верю, что по его тогдашним соображениям, армия смогла бы отправить принца Оранского обратно в Голландию, когда нашёлся бы способ оградить интересы принца Оранского и, одновременно, дать дальнейший ход законам Англии - как то клятвенно обещал Иаков, когда восходил на престол. Всё, что случилось потом, показало, что никакому королю нельзя доверять, и совершенно понятно, что если бы герцог Мальборо имел образ мыслей, свойственный мудрым министрам наших дней, он получил бы от короля Иакова всё, что пожелал бы, за помощь в установлении папизма в Англии. Надеюсь, история эта станет написана по возможности скоро: пока я жива, я могу отвечать на могущие возникнуть вопросы: я желаю видеть в ней одну лишь чистую правду.
Я могу поведать несколько курьёзных случаев касательно поведения двух партий, вигов и тори в послереволюционное время. Но, думаю, лучше будет оставить эту затею, поскольку я никак не смогу отдать ни одной стороне первенства в бесчестье. Я не усматриваю большой между ними разницы, обе стороны преследовали одни лишь свои выгоды. Виги стремились к первенству, заявляя о том, что лицемерные их принципы поспособствуют свободам и процветанию страны. Тори стояли за Священное Право, под которым, полагаю, имели в виду то, что вся власть и выгодные посты должны быть поделены лишь между ними. Но всё, что они делали, меркнет пред великим представлением, что дают сегодня громкие делами и добродетелями милорд Картерет и его партнёр, милорд Батский.
[S.P., 104/69, ff. 152-155. Другая копия хранится в Бленхейме.]
Вильгельм, король.
Инструкции нашему доверенному и любимому сподвижнику и советнику Джону графу Мальборо, кого Мы назначили Нашим Чрезвычайным и Полномочным Посланником для переговоров в Гааге или ином месте о мире для Европы.
Дано при Нашем Дворе в Хемптон Корте 26 июня 1701. В тринадцатый год Нашего Царствования.
Поелику наши Преданные и Верные Долгу Подданные, собравшись в Палате Общин, подали некоторое время назад почтительный Адрес, попросив, чтобы Мы совместно с Ген[еральными] Штатами Соединённых Провинций и иными Правителями изволили войти в такие Переговоры, что поспособствуют взаимной Безопасности названных Королевств и Штатов, и сохранят Мир в Европе, Мы обещали им немедленно приказать Нашим Послам заграницей войти в такие Переговоры, и вслед за тем с этой Целью послали инструкции Александру Стенхопу, эсквайру, Нашему Чрезвычайному Послу при названных Ген[еральных] Штатах, и Нашему Уполномоченному для таких переговоров; теперь же, для Лучшего ведения вышеуказанного Дела, Мы назначили вас Чрезвычайным и Полномочным Посланником. Вы должны повести названные Переговоры с Послами Франции, Испании и иных Правителей в Гааге, действуя вместе с Уполномоченными от Ген[еральных] Штатов, отстаивая нижеследующие Термины и иные Условия, необходимые, по мнению названных Держав, для их дальнейшей безопасности:
1. Что Христианнейший Король прикажет всем своим Войскам, стоящим теперь или назначенным в гарнизоны какого бы то ни было Испанского Города в Нидерландах, удалиться оттуда так, чтобы названные пункты стали на деле и полностью очищены от французских Войск в срок, установленный Договором, и что он возьмёт обязательство не посылать никаких Воинских сил в названные Города или Местности.
2. Что никаких Войск, кроме тех, что состоят из испанских Подданных по рождению, или Германцев, не останется в Испанских Нидерландах, за исключением тех Войск, что встанут или останутся в Городах Залога, как то изложено в следующей Статье.
3. Что для лучшей Нашей безопасности и безопасности Ген[еральных] Штатов и для успокоения Умов Нашего Народа, Нам и названным Штатам, в срок установленный Договором, должны отойти Города Залога, где встанут Наши и никакие иные Гарнизоны, именно: Нам отходят Города Ньюпорт и Остенде, и названным Штатам Города Люксембург, Намюр и Монс в их теперешнем состоянии, и там на согласованный срок встанут Наши Гарнизоны и, соответственно, Гарнизоны Штатов, при обязательстве, что Права и Выгоды Испании не претерпят никакого ущерба.
4. Что никакой Город или Местность, относящиеся к Испанским Нидерландам, и никакой из Портов, принадлежащих Испанской Короне, где бы он ни находился, не станет предметом обмена с Францией, не будет ни под каким видом ей передан и не подпадёт под управление Правительства Франции.
5. Что Наши подданные во всех испанских Владениях, будь то на Море или на Суше, будут пользоваться теми Правами и Привилегиями, что имели ко времени Смерти последнего Короля Испании, и обретаться там, теперь и впредь, столь же нестеснённо, как Французы и люди прочих Держав.
6. Что мы приглашаем Императора стать стороной названного Договора; что Мы, равным образом, приглашаем иных Князей и Государства, кто сочтут должным объединиться ради Европейского Мира.
7. И поелику Общины, заседавшие в Парламенте, единогласно в почтительном Адресе уверили нас в том, что во всех обстоятельствах помогут Нам, поддержав в Альянсах, составленных Нами вместе с Императором и Ген[еральными] Штатами для успешнейшей защиты Европейских Свобод, Процветания и Мира Англии и для обуздывания Непомерной Силы Франции, Мы, в вышеуказанных Целях, постановили начать переговоры в Гааге выступив там вместе с Представителями Императора равно как и вместе со Штатами, и вам поручается при всех подходящих Случаях заявлять Послу Франции и иным уместным лицам о том, что Мы и Ген[еральные] Штаты совместно полагаем и настаиваем на том, что Император должен получить достойное Удовлетворение своих Претензий, и что Наши и его Намерения неотделимы, но Мы не думаем, что Посол Императора и французский Посол согласятся на прямые Переговоры, учитывая открытое Противостояние, начавшееся в Италии.
8. Мы не намерены связывать вас Инструкциями, идущими далее сказанного, и вы вольны не ограничивать Переговоры одной только Гаагой, но получаете Право вести Переговоры, добиваясь вышеуказанных Целей, в любом Месте, кое сочтёте подходящим для осуществления Наших Намерений.
9. Вы можете свободно ознакомить Пенсионера с этими Инструкциями, равным образом вы можете знакомить его с иными, подобными Инструкциями, что будут получены от Нас, со всеми Протоколами и Записками, и вправе, в интересах Нашей Службы, требовать от него такой же открытости.
10. Вы будете придерживаться дальнейших Инструкций и Указаний по указанному Предмету, получая их, по мере надобности, от Нас или от одного из наших Государственных Секретарей, с коими вы будете вести постоянную переписку и посылать подробные Отчёты о ходе ваших Переговоров и обо всех тех Важных Событиях, какие привлекут ваше внимание.
В. К.
Вильгельм, король.
Инструкции нашему доверенному и любимому сподвижнику и советнику Джону графу Мальборо, кого Мы назначили Нашим Чрезв[ычайным] и Полномочн[ым] Посланником для переговоров и заключения Союза между Нами, Императором, Ген[еральными] Штатами Соединённых Провинций и иными Князьями, кто пожелают войти в названный Союз для защиты Мира и Свободы Европы. Дано при Нашем Дворе в Хемптон Корте 26 июня 1701. В тринадцатый год Нашего Царствования.
Поелику Мы сочли правильным последовать Совету Нашего Парлам[ента], и назначить Вас Нашим Чрезв[ычайным] и Полномочн[ым] Посл[анником] для совместного с Имп[ератором] и Генер[альными] Штатами заключения таких Союзов, какие станут необходимы для предохранения Свобод Европы, Процветания Англии и обуздывания Непомерной Силы Франции, Мы сочли нужным поддержать и направить вас нижеследующими Инструкциями.
Вы направитесь в Гаагу или иное Место, какое сочтёте удобным, для переговоров с Представителями Императора, Ген[еральных] Штатов и иных Князей с должными Полномочиями, о заключении такого Союза и Альянса между Нами и названными Князьями, какой наиболее поспособствует достижению вышеуказанных великих Целей.
В первую очередь, и Мы считаем это обязательным условием, необходимо говорить о том, что Безопасность Соединённых Провинций будет достигнута после полного Вывода французских Сил из Испанских Нидерландов и после Устройства названных Провинций таким образом, чтобы они не могли впредь беспокоить Соседей, равно как и не смогли бы оказаться в Распоряжении или подпасть под Влияние Франции, что самым действенным образом обеспечит Безопасность Англии и Голландии и Общие интересы Христианского мира.
Что до Сил Императора, введённых в Италию для Удовлетворения его Претензий в Испанском Наследовании, вам надлежит вызнать у его представителей, на каких Условиях названного Удовлетворения он в особенности настаивает, и дать Нам подробный о том Отчёт, и Мы стали бы в особенности довольны вашим успехом именно в этом Вопросе.
Что до иных Князей, кто пожелают войти в Союз, вы примете от них Пожелания, в части, продиктованной их особыми Интересами, и перешлёте их Нам для дальнейших Указаний.
И насколько мы знаем от Нашего Посла в Лиссабоне, Король Португалии выслал своему Посланнику в Гааге Инструкции в смысле своего желания присоединиться к мерам, поспособствующим Защите Общественного Спокойствия; вы должны узнать у названного Посла, что именно собирается предложить Король Португалии и, одновременно, заявите ему о том, как важно, чтобы Король Португалии, наряду с заботами о Безопасности и Выгодах Собственных Владений присоединился бы к Мерам, что станут сообща предприняты Нами, Императором и Ген[еральными] Штатами в Общих Интересах Христианского Мира.
И в подготовленных вами Договорах вы должны обратить особое внимание на защиту и развитие Торговли Наших Королевств; по этому вопросу, когда он встанет в повестку дня вы получите особые инструкции.
Вы можете свободно ознакомить Пенсионера Голландии с этими Инструкциями, равным образом вы можете знакомить его с иными, подобными Инструкциями, что будут получены от Нас, и со всеми Документами, относящимися к Предмету, и вправе, в интересах Нашей Службы, требовать от него такой же открытости.
Вы будете придерживаться дальнейших Инструкций и Указаний по указанному Предмету, получая их, по мере надобности, от Нас или от одного из наших Государственных Секретарей, с коими вы будете вести постоянную переписку и посылать подробные Отчёты о ходе ваших Переговоров и обо всех тех Важных Событиях, какие привлекут ваше внимание.
В.К.
Иные сокращения, там, где необходимо, расшифровываются в сносках.
Пр. авт. При чтении этой главы см. карту: Кампания при Седжмуре, 1685. Далее примечания автора не помечаются, примечания переводчика отмечаются особо.
Уолсли неверно называет Джеймса Лея вторым графом Мальборо в Life of Marlborough, i, 8; и верно, то есть третьим графом Мальборо там же, ii, 64.
Изложение приключений Элеоноры, леди Дрейк, основано на C.S.P. (Compounding), pp. 65 66, 1051 53, 1317; её обращение от 22 марта 1648 года в палату лордов см. в H.M.C., vii, 16b; и у A. R. Bayley, The Great Civil War in Dorset , p. 129. Последний даёт хорошее описание осады Лайм Реджиса, глава vi.
Уолсли (ii, 8) говорит о Джоне Дрейке, как о роялисте, что опровергается в C.S.P. (Compounding), p. 866.
О выплатах деда первого герцога Мальборо по компромиссному соглашению см. Bayley, p. 405 (local records); C.S.P. (Compounding), pp. 1176 77 (central records).
Пр. перев. Документ, суммирующий догматику пресвитерианства и возглашающий верховную власть парламента.
Пр. перев. Присяга отрицания от 6 апреля 1645 года, принятая на совместном заседании Лордов и Общин: Я, имярек, даю чистосердечную клятву не помогать Королю в этой войне ни прямо, ни косвенно, ни действовать против Парламента, ни вместе с какими бы ни было силами, собранными для этой войны без согласия Палат. Затем говориться, что давший клятву передаёт себя в распоряжение и под защиту парламента и обязуется не исполнять распоряжений короля, его чиновников и офицеров.
О выплатах отца первого герцога Мальборо по компромиссному соглашению см. C.S.P. (Compounding), pp. 299, 1177; C.S.P. (Advance of Money), 1092 93; vol. ccxxi Royalist composition papers in the P.R.O.
C.6/145, No.51. От дела в Канцлерском суде сохранились лишь опросы, и в таком плохом состоянии, что год подачи иска различить невозможно. Но, как свидетельствуют бумаги Комитета по урегулированию, судебный процесс вернее всего, состоялся не позднее 1649 года.
S.P., 23/221, f. 855 and v. Этот документ надписан на обороте: Записка по делу Уинстона Черчилля джентльмена из Гланвиллс Вуттон в графстве Дорсет. - Взыскано с ренты в размере ста шестидесяти фунтов в год, что взимается со всех угодий Джона Черчилля, эсквайра, из Гланвиллс Вуттон в графстве Дорсет, кроме одного лишь лизгольда Винчестерского Колледжа, сюда не относящегося - [подпись] У.Черчилль. Размер взыскания подтверждается документом, озаглавленным Отчёты Дорсетширского Комитета по секвестрам, 1652-4, на обороте которого читаем: Имена некоторых персон, кто уплатили должные суммы своих взысканий казначейству в Гоулдсмитс-Холле. Там значится Уинстон Черчилль, уплативший 446 фунтов 18 шиллингов (S.P., 23/80, f. 282.) Единственный из вторичных источников, где автор обнаружил верную цифру: Dale, History of Glanvilles Wootton.
Из предыдущего примечания и из иных упоминаний в томе ccxxi Royalist composition papers, ясно, что сумма эта, назначенная ему отцом, была доходом, с которого и начислили взыскание Уинстону Черчиллю; помимо этой ренты, жена его единожды получила в собственное распоряжение сумму в 1 000 марок (666 фунтов 13 шиллингов 4 пенса); но ниоткуда не следует, что у Уинстона был и иной доход, не попавший под взыскание. Верно, что Уолсли (i, 19) цитирует Сару, герцогиню Мальборо, говоря о том, что Уинстон, после женитьбы, получил 1 000 фунтов в год от своего отца. В то же время в рукописях Спенсера (Spencer MSS), откуда Уолсли черпает информацию, указано, что Уинстон Черчилль получил около 1 000 фунтов в год от своего отца - т.е., предположительно, после смерти отца. См. Приложение II.
В ответе на иск, поданный Уинстоном Черчиллем в Канцлерский суд (10 июля 1660 года), миссис Мэри Черчилль ссылается на соглашение, заключённое накануне свадьбы с Джоном Черчиллем семнадцать лет тому назад (C.6/148, No. 27).
По записи в приходской книге св. Михаила, Масбери, любезно предоставленной автору теперешним приходским священником преподобным Дж. Фергюсоном, Арабелла Черчилль родилась 28 февраля 1649 года и крещена 16 марта 1649 года, вопреки неверной - март - дате у Уолсли (i, 23) и в D.N.B. (Национальном биографическом словаре).
Wolseley (i, 28) принадлежит утверждение, о том, что Ричард Фаррант был первым постоянным педагогом Мальборо. Жизнь двух знаменитых генералов (p. 5), авторитетный для Уолсли источник, указывает лишь на то, что он был отдан [на воспитание] опальному священнику Но Фаррант был пуританским пастором, кто стал ректором Масбери - возможно после смерти Метью Дрейка в 1653 - и был изгнан в 1662, как нонконформист. Сведения взяты из приходских книг Масбери и из Calamy, Nonconformists Memorial, sub Musbury.
Запись эта взята из тетради с выписками литературных цитат; указанная тетрадь принадлежит герцогу Портлендскому и любезно предоставлена автору библиотекарем герцога, мистером Ф.Нидхемом.
Несомненно, что он приобрёл обширную земельную собственность. Он купил Ньютон Монтакат и земли у Вуттон Гланвиллс с доходом не хуже 600 фунтов в год (в четыре раза больше в современном эквиваленте); он арендовал соседский дом с пристройками и участком в Минтерне у Винчестерского Колледжа, и держал закладные на иные девонширские земли. Он удачно женился; наконец, его предприимчивость и деловые способности находят подтверждение в следующем факте: в 1639 он предложил своим Вуттон Гланвилским арендаторам огородить за казённый счёт общинные земли с целью сельскохозяйственных улучшений в своих владениях. В деле John Churchill v. Thomas and Edward Mayo (May 16, 1639, C. 8/ 86, No. 101) упоминается предложение об огораживании общинных земель. Дело Winston Churchill Knight v. Henry Mullett (November 15, 1669; C. 5/ 460, No. 220) указывает на то, что к 15 ноября 1669 года огораживание не состоялось. Polwhele, History of Devon, и иные документы, ссылаясь на дело в канцлерском суде Winston Churchill v. Mrs Mary Churchill (1660 61) открывают нам подробности о владениях Уинстона Черчилля и их стоимости.
В письме в Геральдическую палату (1685) Уинстон говорит о своём гербе: Отец мой, женившись на Саре, одной из дочерей и наследниц сэра Генри Уинстона из Стендиша что в графстве Дорсет, произвёл на свет Джона, старшего моего брата, кто умер сразу же после рождения, и меня; я же, женившись на Элизабет, третьей дочери сэра Джона Дрейка из Аша, произвёл на свет обильное потомство, именно: восьмерых сыновей и троих дочерей, но до сегодняшнего дня дожила лишь старшая дочь, Арабелла, теперь жена полковника Чарльза Годфри; старший мой сын, теперь лорд Черчилль, женился на Саре, одной из дочерей и наследниц Ричарда Дженнингса из Сент-Олбанса; тот несчастливо потерял манор Черчиллей, и теперь он продан; но мой сын, расстроенный тем, что не смог получить то, что причиталось ему в обладание, как всегда обещал ему сэр Джон Черчилль, теперь отказывается выкупить манор.
Spencer MSS., документ вложен в письмо от Сары, герцогини Мальборо, к Девиду Маллету, октябрь, 4, 1744.
Пр. перев: то есть герб не унаследованный от линии Черчиллей, но начавшийся именно с Уинстона Черчилля.
Король сэру Эдварду Уолкеру, Главному герольдмейстеру, 11 декабря 1661: Повелеваю добавить красный крест св.Георга в серебряном квадрате (секции в верхнем левом углу герба - пр. перев) на герб Уинстона Черчилля из Минтерна [sic] графство Дорсетшир, за службу прежнему королю в ранге капитана кавалерии и за его верность теперь, как члена палаты общин (C.S.P. (Dom.), 1661 62, p. 176.). Комментарий самого Уинстона на указанное пожалование см. Bath Papers, loc. cit.
См. Commons Journals, viii, в разных местах, особенно p. 425.
Новейшее изложение реставрационных установлений в Ирландии можно найти в R. Bagwell, Ireland under the Stuarts, vol . iii (1916), chapters xli, xlii. См. также E. A. Dalton, History of Ireland (1906), chapter xx, и J. P. Prendergast, Ireland from the Restoration to the Revolution (1887).
Ср. Сэр Уинстон Черчилль ко графу Арлингтону, апрель 28, 1666, Дублин: И письмо это, мой лорд, станет доставлено моим сыном [Джоном?], кто, будучи свидетелем моих дел, смог понять собственные обязанности, и войдёт в придворный круг (как в своё время я) при патронаже и благоволении вашего сиятельства (S.P. 63/ 320, f. 226.)
S.P., 63/ 313, f. 78, частично напечатан в C.S.P. (Ireland), 1663 65, p. 49.
S.P., 63/ 315, f. 42. Cf. C.S.P. (Ireland), 1666 69, p. 281.
H.M.C., iv, 247. Указана неверная дата, январь 10, 1662/3, вместо 1663/4, ошибка, смутившая лорда Уолсли.
Герцогиня Мальборо к Давиду Малле, 4 октября 1744: вслед за цитатой, приведенной ниже, идёт: И герцог Мальборо... показал мне дом, где он жил в то время. (Spencer MSS.)
Wolseley, i, 22, там процитированы записи гофмаршальской конторы.
В статье R. B. Gardiner в The Pauline от июня 1892 собраны печатные свидетельства пребывания Мальборо в школе св. Павла. Лучшее из них, однако, содержится в цитируемо далее письме герцогини Мальборо.
Coxe (Memoirs of Marlborough, chapter i) неверно указывает, что запись эта была сделана в книжке самого Вегеция. Сведение о том, что книга с указанной записью находится теперь в Уолкеровой библиотеке школы св. Павла поступило от действующего библиотекаря школы, преп. I. Mavor.
История эта приведена в Мемуарах под редакцией C. H. Hartmann, переведённых Peter Quennell (1930), pp. 285 286. Лорд Уолсли указывает, что инцидент произошёл около Йорка.
Сэр Уинстон Черчилль графу Арлингтону, 13 января 1666 года, Дублин (S.P. 63/ 320, f. 9). Редактор C.S.P. (Ireland) в своём указателе относит эту ссылку к Джону, герцогу Мальборо, но в оригинале письма ясно говорится о моём младшем сыне. Поскольку Джон был старшим из выживших сыновей, а Джордж шёл следующим по старшинству, кажется, что речь здесь о Джордже, в особенности приняв во внимание то обстоятельство, что Чарльзу, третьему сыну Уинстона, было к тому времени всего десять лет. Ни в одной из биографий в D.N.B не говорится об этом назначении.
Пассаж этот см. у Bagwell, op. cit., и в тридцать втором отчёте помощника судебного архивариуса (Carte Papers), pp. 170 181.
Первоисточник этой истории: Жизнь двух знаменитых генералов. Первый чин энсин был присвоен Черчиллю 14 сентября 1667 года.
Супруга Карла II, принцесса португальского королевского дома - прим. перев.
S.P., Signet Office, vii, 195, and S.P., 63/ 327, ff. 54 55.
Cf. G. S. (Steinmann, Barbara, Duchess of Cleveland, p. 235, цитировано у Abel Boyer, Annals.
C.S.P. (Dom.), 1671, p. 71. Hatton Correspondence (Camden Society), i, 66.
Burnet (i, 475) приводит этот эпизод, не называя имени Черчилля. Cf. Chesterfields Letters, i, 136, and The New Atalantis, i, 21, seq.
Очень может быть, что это два разных изложения одной неправдивой истории.
J. Paget, The New Examen, No. I, Lord Macaulay and the Duke of Marlborough (1861), перепечатан в Paradoxes and Puzzles (1874).
Пр. перев: Во Франции как плеть; в Англии как ревнитель палочной дисциплины, Палкин.
P. Blok, History of the People of the Netherlands, vol. iv, chapters xii, xix.
Пр. перев: Смитфилд-сквер, Лондон. Место массовых сожжений протестантов при попытке Марии I Тюдор восстановить католицизм в Англии.
Пр. перев: Ла-Манш, Па-де-Кале, пролив Святого Георга и Северный пролив.
Отсюда и далее мы будем использовать понятия Империя, Австрия и Венский двор как более или менее взаимозаменяемые термины.
... с 1668 г. в качестве ответственных министров на политическую сцену вышли пять главных советников короля: Томас Клиффорд; Генри Беннет, граф Арлингтон; Джордж Вилльерс, герцог Бэкингем; Энтони Эшли Купер, граф Шефтсбери и Джон Мейтленд, герцог Лодердейл. Они и образовали так называемое кабальное министерство из начальных букв их имен остряки быстро составили слово CABAL - У.С.Черчилль, Британия в Новое время, прим перев.
К началу биографии герцога Мальборо: некоторые инструкции историкам Сара, герцогиня Мальборо (Spencer MSS., 1744). См. полный текст в Приложении II.
Atkinson, Marlborough and the Rise of the British Army, p. 39 - единственный автор, кто упоминает указанный эпизод карьеры Черчилля. Изложение точное, но ссылаться надо на C.S.P. (Dom.), 1671 72, p. 609.
Песня о недавнем славном деле герцога против голландцев, из Naval Songs and Ballads (ed. Firth, 1906), p. 82. Пр. перев: в оригинале от Уолсбервика до Данвича.
Полное описание этой битвы с великолепными пояснительными планами даны у Corvett (Navy Records Society, 1908). Полезны и комментарии Мэхена (The Influence of Sea Power on History, 1896, chapter iii).
Назначение состоялось 13 июня 1672, документы в Бленхейме. Cf. C.S.P. (Dom.), 1671 72, pp. 218, 222, и C. Dalton, Army Lists, i, 127 128.
20 октября 1672 года, полностью напечатано у F. W. Hamilton, History of the Grenadier Guards, i, 166.
Пр. перев: Джеймс Скотт, 1-й герцог Монмутский, был внебрачным сыном Карла II.
.P., 78/ 137, f. 142. Схожесть имён Алингтона и Арлингтона привела к ошибкам во многих книгах.
Или Вильерс, сын лорда Грандисона. При описании этого фрагмента осады, некоторые авторы путают его с Луи Гектором де Вилларом, впоследствии знаменитым французским маршалом, кто бился в той же атаке, но в ином её эпизоде. 82 Le Fleming Papers, H.M.C., p. 108.
Лувуа Монмуту, 31 марта (по новому стилю), 1674; Dpt de la guerre, 391, pice 204. Ср. Локхарт Арлингтону от того же дня (S.P., 78/ 139, f. 73).
Оригинал патента, датированный 3/13 апреля, есть в Бленхейме. У лорда Уолсли две ошибки касательно указанного назначения. Во-первых, он ставит дату 3/13 марта; затем, даёт ссылку, связывая указанное назначения с письмом Лувуа, кто выражает сомнение в способности Черчилля занимать некоторый пост - но это письмо относится к позднейшему, спустя три года, эпизоду.
Среди бленхеймского рукописного материала есть несколько писем Сары к матери, написанных после замужества и показывающих, в каких отношениях они пребывали. Сара Черчилль к миссис Дженнингс: С тех пор как мы простились, дорогая мама, я часто думаю о причине волнений и раздражения в тот вечер и наутро, перед моим отъездом; и если бы поняла, что сделала тогда нечто, резонно тебя обидевшее, разгневалась бы на саму себя, но я совершенно уверена, что не сотворила ничего подобного, но исполняла должные перед тобою обязательства, и если, против своей воли и по недомыслию я как-то провинилась перед тобою, надеюсь на прощение и прошу припомнить, сколько раз, подъехав к дому, я останавливала карету и приглашала тебя войти без всякой задней мысли, но лишь для того, чтобы не оставлять тебя наедине со [страхом] смерти, и по какой, скажи на милость, причине ты так злословила затем обо мне и Бетти Муди [Моуди], что мне пришлось прекратить всё это помимо желания. Почта отходит, и я заканчиваю, но надеюсь вскоре увидеться или получить от тебя весточку, и остаюсь твоей навеки преданной дочерью, как бы ты ни думала обо мне. ЧЕРЧИЛЛЬ.
Письма напечатаны с рукописных оригиналов, хранящихся в Бленхейме; правописание и пунктуация приведены к современным нормам. Не публиковавшиеся прежде документы помечены звёздочками.
Миссис Моуди, служанка и в некотором смысле компаньонка Сары.
13 апреля 1675 года иезуитский священник Сен-Жермен писал из Фландрии корреспонденту в Англии: За последние три месяца, я много раз писал о том, что, по регулярно поступающим сведениям, ни Черчилль ни Кларк больше не приедут, а не получив от вас ответа, я совершенно уверился в том, что их нечего и ждать. (St Germaine to E. Coleman, April 13, 1675; H.M.C., xiii, App. vi, p. 108.)
C.S.P. (Казначейские книги), 1672 75, стр. 830, описано содержимое двух сундуков Черчилля с серебром доставленных из Франции в октябре, именно: один таз, 2 больших блюда, 12 малых блюд, 2 дуршлага, 3 дюжины тарелок, 2 фляги, 4 канделябра, 2 кувшина, 2 подставки, 2 кастрюли, 1 судок для уксуса, 1 сахарница, 1 судок для горчицы, 1 пара щипцов для снятия нагара и коробка для них, 4 солонки, 6 чашек, 12 ложек, 12 вилок, 12 рукоятей для ножей, одна большая ложка, один ночной горшок, один чайник, один горшок для шоколада, одна большая чаша, одна сковорода, 2 турецкие чаши. Несколько образцов этой посуды французской работы до сих пор сохранились в Элтопе.
Ноябрь 19/ 29, 1676. Correspondance politique, Angleterre, t. 120 C, f. 231; cf. ff. 206, 248, etc. Указанный источник имеет первоисточником оригинальные письма французского министерства иностранных дел, вопреки неверным местам у Wolseley и Fornerons Louise de Kroualle. Более того, Уолсли разделил этот эпизод, поместив его частью в 1674 и частью в 1676.
Courtin to Louvois, ноябрь 27/ декабрь 7, 1676; Correspondance politique Angleterre, t. 120 C, f. 248.
Автор Королевы Зары в точности неизвестен, но если он и не миссис Менли, памфлет, определённо, продукт аналогичного производства и того же качества.
Фраза эта привлекла внимание некоторых, как свидетельство того, что Черчилль не искал брака. Но хронологическая последовательность писем указывает, что в это самое время он устраивал материальное основание будущей семейной жизни.
Автор в Notes and Queries (No. 151, 1926, стр. 199) говорит, В Ньюселс-Парк, Ройстон, есть обеденная зала, специально выстроенная для того, чтобы проводить ежегодные празднования в ознаменовывание свадьбы Сары Дженнингс и Джона Черчилля. Теперешний владелец Ньюселс-Парка, капитан сэр Хамфри де Траффорд, любезно проштудировал местные приходские книги, ища записи о свадьбе именно в Парке, но никаких следов не обнаружил.
Договор датирован 13 апреля (старого стиля) есть в Add. MSS., 28397, f. 289.
Черчилль жене, 22 апреля 1678, Брюссель: Я испытываю некоторые трудности в своих делах с принцем Оранским (Уолсли, i, 204.) Конвенция датирована 23 апреля (по старому стилю), есть в Бленхейме и в Add. MSS., 28397, f. 291.
См.S.P., 84/206, f. 151. Английский посол в Гааге докладывает, что 19/29 апреля 1678, сюда приехали полковник Черчилль с принцем Оранским; оба сразу же пошли на заседание Голландских Штатов и провели там три часа, решая вопрос, быть ли миру или войне.
C.S.P. (Dom.), 1678, стр. 91. Денби к Вильгельму Оранскому: Полагаю, вы успели убедиться в искренности, с коей герцог Йоркский ратует за войну, насколько он решителен в желании лично ехать с армией за границу. В обоих соглашениях о старшинстве офицеров, заключенных Черчиллем, оговорено, что Джеймс будет главнокомандующим. См. также собственные письма Джеймса в Campana de Cavelli, Les derniers Stuarts, i, 208, etc.
Keith Feiling, History of the Tory Party, 16401714, стр. 174.
Различные версии случая Монтегю-Кливленд см. в Ormond Papers, H.M.C., iv, 441 445; Bath Papers, H.M.C., ii, 166.
Сандерленд к Генри Севилю, 31 октября 1678. Оригинал письма есть среди рукописей Спенсеров (Spencer MSS).
Людовик XIV Барильону, 21 сентября (нового стиля), 1679, из Фонтенбло специальным курьером, Correspondence politique, Angleterre, t. 137, ff. 87 89. Указанное письмо даёт самое подробное описание миссии Черчилля. Другие материалы из французских архивов напечатаны у Dalrymple, Memoirs of Great Britain and Ireland, i, 321, seq. Что касается расходов Черчилля, см. C.S.P. (Treasury Books), 1679 80, стр. 216, 233, 240.
Джеймс к Леггу, 14 октября, 1679; Foljambe Papers, H.M.C., стр. 139.
Письма, маркированные звёздочками, публикуются впервые. Другие письма приведены у Wolseley, chapter xxix.
5 января 1681. Dartmouth Papers, H.M.C., xi, Appendix V, 55 56.
Дальнейшее изложено в основном по: J. Willcocks Life of Argyll (1907).
Письмо Черчилля к Вердену не сохранилось, но ответ последнего (Blenheim MSS.) удостоверяет смысл. Верден писал Черчиллю 22 декабря 1681 Ваше от 13-го последнее, что получил от вас Я предполагал, что дело графа Аргайля кончится именно так; & теперь (во имя старой дружбы, как вы мне напомнили) я надеюсь, что он получит королевское прощение См. Также: Черчилль к Леггу, 5 января 1682, Dartmouth Papers, H.M.C., стр. 55 56 (неверно датированное 1681-м).
Во многих хрониках указаны две мели - Lemon и Ower напротив, как написано, Хамбера. В действительности в тридцати милях к югу
Уолсли даёт неверную датировку 1683-м. Грамота находится в Бленхейме..
Патент, датированный 19 ноября 1683, хранится между рукописей Бленхейма.
Совсем удовлетворительной биографии королевы Анны до сих пор не написано; ничто не может заменить работы Miss Anne Strickland в её Lives of the Queens of England (1841) - а труд этот испорчен якобитским приверженством авторессы. С другой стороны, мы пойдём против правды, если дадим один только портрет Анны из записок герцогини Мальборо.
Оправдание поведения герцогини Мальборо, составленное Гильбертом Бёрнетом, епископом Солсбери (1710), стр. 910. См. Приложение к этому тому.
Эти письма, до сих пор не публиковавшиеся, взяты из рукописного архива Бленхейма. Первое письмо может быть датировано лишь приблизительно, с учётом того, что первая выжившая дочь Черчилля, Генриетта, родилась 19 июля 1681 года, а вторая, Анна, 27 февраля 1684 года.
Прим. перев: В оригинале Trimmer, то есть парикмахер, приспособленец, балансир, и т.п.; некто уравнивающий, стригущий под ровную гребёнку, оппортунист, человек, создающий противовесы.
Прим. перев: Великий общинник - впоследствии прозвище Питта-старшего.
Memoire of September [?], 1687 (Correspondance politique, Angleterre, t. 164, f. 232). В том же документе говорится, M de De Chercheil est dame dhonn[ eu] r de la P[ rinces] se de D[ annemar ]k qui laime tendrem[ en] t. Elle a de lesprit, et lon est persuad que cest elle qui contribue a loigner cette P[ rinces] se de la Cour, de peur que le Roy son Pre ne luy parle sur la religion.
Переписка между Людовиком XIV и Барильоном, C. J. Fox, James II, Appendix, pp. xxiv seq.
Прим. перев: Название Королевского конногвардейского полка, по цвету мундиров.
Черчилль был произведён в генерал-майоры 3 июля: возможно, чтобы смягчить назначение Февершема, но узнал о повышении лишь по окончании боевых действий.
Он не был, как обычно указывают, фермером, но слугою мистера Спаркса, жившего в Чедзое. Поутру Спаркс поднялся на чедзойскую колокольню и наблюдал за лагерем королевской армии. Чтобы не компрометировать себя, он послал к Монмуту хорошо знавшего местность слугу, чтобы тот рассказал герцогу наблюдения Спаркса.
Наилучшее описание Седжмура дал Maurice Page (Bridgwater Booklets, No. 4): он, скрупулёзно изучив приходские книги и материалы местных расследований, исправил во многих мелких частностях принятые ранее версии события, и стал первым публикатором свидетельств чедзойского священника и мистера Пашела.
The Battle of Sedgemoor, Buckinghams Works (ed. 1775), ii, 117 124. Среди прочих абсурдностей, автор вкладывает в уста Февершема следующее: (не возьмусь перевести этот смешной жаргон на русский по недостатку умения - пр. перев): A pox take de Towna vid de hard Name: How you call de Towna , De Breeche? Ay begarra, Breechwater; so Madama we have intelegenta dat de Rebel go to Breechwater; me say to my Mena, March you Rogua; so we marsha de greata Fielda, begar, de brava Contra where dey killa de Hare vid de Hawka, begar, de brav Sport in de Varld. Жаргонная эта речь показывает нам предубеждение английского общества и армии к иностранцам и атмосферу вокруг Февершема.
На этом месте Маколей сел в лужу самым нелепым образом; виной тому литературные пороки, коим он был привержен. По неопределённой причине, он невзлюбил лидера квакеров, Уильяма Пенна. Он честит его с тем же пылом, что и Мальборо. В своей Истории, он выставляет Пенна в дурном свете, используя разные искусные уловки. Он, например, говорит, что тот посетил в один день две казни - повешение в Ньюгейте и сожжение на Тайбурне, и предполагает в Пенне вкус к таким зрелищам; на деле, Пенн просто исполнял волю обеих жертв, моливших побыть с ними в смертный час. История тонтонских девушек предоставила автору другую манящую возможность для очернения Уильяма Пенна. Некоторый Пенн преуспел в торговле за выкуп девушек. Маколей с восторгом повёлся на это имя. Он быстро убедил себя в том, что это Уильям Пенн и украсил свою Историю язвительным параграфом о постыдном эпизоде. К несчастью для автора, то был Пенн, но совсем другой Пенн, по имени Джордж, кто, в самом деле, исполнял грязную работу. Очерк пера Паджета выставил напоказ этот промах (хотя Маколей и делал хорошую мину), став подобающим наказанием.
W. Orme, Remarkable Passages in the Life of William Kiffin, p. 147.
Прим. перев: Судовая роль - основной судовой документ, содержащий сведения о количестве и составе экипажа.
Предупреждение это, как читатель узнает дальше, не осталось незамеченным.
Прим. перев: В общих чертах, конфессиональная склока в Англии того времени шла между тремя участниками: Церковь Англии (государственная религия), опальные католики и нонконформисты-диссентёры: протестанты всяких ветвей. В комментируемом абзаце, Иаков - стремясь дать силу английским католикам выбрал путь дарования свобод всем негосударственным инославцам, т.е. и католикам и, с другого фланга, нонконформистам (в большинстве своём, это были пуритане).
Жизнь двух знаменитых генералов, стр. 19-21. Косвенная речь у автора заменена здесь на прямую.
Прим. перев: в данном эпизоде, Тест-Акт закон 1673 года. По нему, никто не мог занять государственной должности без присяги в подданстве и в том, что английский король есть единственный земной глава церкви Англии (супрематия); без засвидетельствованного причащения по обряду церкви Англии. При буквальном действии Тест-Акта, ни один католик либо нонконформист не мог занять государственной должности.
Correspondance politique, Angleterre, t. 162, ff. 267 verso, 268.
Высокий пост в Голландии, нечто похожее на нашего начальника канцелярии в Лордах (Clerk of Parliaments).
Johnstones letters, cit. J. Mackintosh, History of the Revolution, pp. 197 198.
Цит. По: E. Lavisse, Histoire de France, t. 7; D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century, chapter vii.
См. Memoirs of the Verney Family during the Seventeenth Century.
Оригинал письма приобретён профессором Тревельяном. Он показал его автору этой книги, и любезно разрешил опубликовать здесь факсимиле.
Autobiography of Sir John Bramston (Camden Society, 1845), p. 326.
До сих пор, все авторы историй и биографий указывали, что с Черчиллем ушла лишь горстка приверженцев. Нижеследующее письмо Вильгельма говорит о том, что Черчилль взял с собою немалое число офицеров.
Вильгельм Бентинку (24 ноября / 4 декабря 1688):
Только что прибыл джентльмен с изъявлениями от лорда Бристоля, сообщив, что проезжая Крохорном [Крюкерном], он нашёл там пришедшего примкнуть к нам лорда Черчилля с, примерно, четырьмя сотнями лошадей [конных?], и всеми офицерами (Correspondence of William and Portland, i, 61.)
Перепечатано с копии, найденной в рукописном архиве Бленхейма.
Среди картин, собранных Мальборо в Холивеле, есть (теперь это собственность графа Спенсера) портрет маршала Шомберга. Картина исполнена специально для Мальборо, и слабо верится в то, что герцог стал бы держать в собственном доме такое изображение, на долгую память о человеке, если бы тот оскорбил его так вульгарно и крепко в решительном событии жизни.
Смотри, между прочего, сообщение Самуэля Пеписа в Dartmouth Papers, H.M.C., xi , Appendix V, p. 214; Clarke, pp. 226 227; Оправдание поведения Сары, pp. 17 18; Lediard, pp. 53 54; Clarendon, Correspondence and Diary, ii, 207
An Apology for the Life of Mr Colley Cibber (1740), pp. 57 59.
P. Frowde к Дартмуту, 3 января 1690, Dartmouth Papers, H.M.C., p. 249.
См. изложение его писем к Вильгельму в C.S.P. (Dom.), 1689 90. Вильгельм к Мальборо, 6/16 июля, 1689: Jay bien de joye daprendre que vous vous accordez si bien avec le Prince de Waldec. (Blenheim MSS.)
S.P., King Williams Chest 5, No. 96, letter dated August 25.
Вильгельм III к Мальборо, 3/13 сентября, 1689 (Blenheim MSS.).
Помимо Мальборо, членами совета были Денби (ставший маркизом Кармартеном), лорд-президент; Годольфин от Казначейства; Ноттингем и Генри Сидни (ставший виконтом Сидни), государственные секретари; а также Рассел, Девоншир, Монмут (впоследствии граф Питерборо), и сэр Джон Лоутер (впоследствии лорд Лонсдейл).
Одно из написанных в то время писем короля Вильгельма к Мальборо заслуживает публикации здесь.
AU CAMP DE CRUMLIN 9/19 de Juillet 1690
* Vous pouvez facilement croire combien jay este touche du Malheur quest arive a ma flote je doute fort que Mr Torrington poura se justifier de sa conduite, Jespere que Ion faira tous les efforts possible pour la remettre bien tost en Mer. Je naprehende pas beaucoup une descente car selon les informations les ennemis nont point des trouppes sur leur Flote. Et jy suis confirme par les lettres que nous avons pris lesquels vous seront communiques , mais ils pouront bien envoyer en ces Mers un detachement de fregattes qui nous incomoderoit fort. Et nous aurons bien de la piene dempescher quil ne nous brulent nos Vesseaux de Vivres et de Transport, Je suis tres aise des assuerances que vous me donnes daffection des Trouppes et du vostre. Apres les adventages que jay emporte icy je croi que les Malintensiones en Angletere nauseront se remuer, soiez asseure de la continuation de mon amitie.
WILLIAM R.
Je naures plus besoin des deux Batt des Gardes Et mesme si vous aviez encore besoin de Trouppes je poures bien tost vous en envoyer pourveu que le passage soit libre.
Ce que vous mavez ecrit il y a quelque temps que Sr J[ ohn] G[ uise] mauroit dit, je vous asseure quil ne ma jamais parl de vous ny que je nay rien houi de ce que vous mavez mande.
Последняя фраза стала ответом на письмо Мальборо от 17 июня, где он ссылался на обвинение, выдвинутое некоторым вздорным полковником сэром Джоном Гюизом в том, что Мальборо выручил крупную сумму от командования в Голландии. См. C.S.P. (Dom.), 1690 91, p. 34; Dalton, Army Lists, ii, 244. Предположительно, здесь может быть связь с якобитской историей о том, что Мальборо, будучи во Фландрии, получал жалование за большее число солдат, нежели фактически служили под его командой. Так или иначе, он постоянно докладывал королю об этом деле. См. также гл. 28.
14/24 dAoust 1690
Je vien de recevoir vostre lettre du 7, Japprouve fort le dessin que vous avez de vous embarquer sur la flote avec 4000 fantaissons et les Regt: Mariniers qui fairont ensemble 4900 hommes ce qui est un corps sufficient pour prendre Kingsale et Corck. II faudra que vous preniez lammunition sufficient Et quelque canon des Vesseaux car nous vous en pouvons point envoye dicy, Mais pour la Cavallerie je vous en envoyeres ces sufficament et prenderes bien soin que larmee ne vous tombera pas sur les bras, il ny a que le temps quil faut bien menager et vous depescher le plus tost quil vous sera possible et madvertir environ du temps que vous y pourez ester
Ещё одно из писем Вильгельма к Мальборо, представляющее интерес.
A KENSINGTON ce 4/ 14 Oct. 1690
Vous pouvez croire comme jay este rejoui de la prise de Cork, vous en felicitent aussi pour la part que vous y avez dont je vous remercie, jespere que japrenderes bien tost le meme heureux succes de Kingsale, Et que je vous revoirez en peu en parfaite sante. A Ieguard des Prisonniers que vous avez fait a Cork Ion dit quil y a une Isle aupres, ou Ion les pouroit garder seurement. Et quoy quils me couteront beaucoup en pain, cette depense est inevitable, jusques a ce que jen puis disposer autrement et que je ne puis faire si tost, soiyez tousjour asseure de la continuation de Mon Amitie.
Le Fleming Papers, H.M.C., p. 301, News-letter of November 1, 1690.
Macpherson, Original Papers, i, 284 (основывается на записке Карта о разговоре с Диллоном, имевшем место в 1724).
См. Carstares к Lord Polwarth, Loo, September 17, 1691, H.M.C., XIV, iii, 123.
См. между прочего, Stuart Papers, H.M.C., ii, введение к Campana de Cavelli, Les derniers Stuarts, и C. J. Fox, James II.
Одного этого достаточно для выяснения авторства; ниже дано и другое доказательство.
Ранке полагает, что выписки сделаны из самих мемуаров. Никто до сих пор - писал он в 1875 - не усомнился в их аутентичности; и использует Карта для оспаривания ценности Жизнеописания Кларка. Он выявил несколько важных расхождений между мемуарами и Жизнеописанием и утверждает, что в любом случае мемуары, насколько они представлены в выписках Карта - единственном его ориентире - более достоверный материал. С другой стороны, в комментарии на Жизнеописание Кларка, напечатанном в Edinburgh Review, июнь 1816, автор, анонимный но, определённо, весьма образованный, тщится доказать, что Карт работал с одним лишь Жизнеописанием, а значит выписки его не имеют самостоятельной ценности. Он, как Ранке, тщательно сравнивает места, взятые Картом из мемуаров, с работой Кларка, основанной на мемуарах, и приходит к противоположному выводу: Карт делал выписки из одной лишь Жизни.... Наконец, комментатор ссылается на процитированное выше письмо Эдгара, являющееся, само по себе, едва ли ни решительным доказательством.
Например, в 1769 году, куратор Бодлианской библиотеки назначил Томаса Монкхауса инспектировать бумаги Карта, коими обладал тогда Джернеган. Отчёт и заключение Монкхауса хранятся в университетских архивах, и говорят о том, что он, в 1770 году, обследовал тома включавшие рукопись Нэрна. Граф Хардвик, работая над комментариями к Истории моего времени Бёрнета, уплатил Джернегану 200 фунтов за право прочтения тех же материалов. Сэр Джон Далримпл, якобит, писал в предисловии ко второму изданию (1771) своих Записок о Великобритании и Ирландии: Со времени первого издания Записок мне посчастливилось напасть в Лондоне на некоторую коллекцию документов, послуживших источником и подтверждением всех вновь упомянутых фактов. Я говорю о документах покойного мистера Карта, теперь в собственности мистера Джернегана, женившегося на вдове Карта. В бумагах содержатся очень полные выписки, что были извлечёны из собственноручных Мемуаров Иакова II, хранящихся теперь в Шотландской Коллекции, в Париже; затем, там обнаруживаются оригиналы многих государственных документов и копии иных документов Сен-Жерменского двора. И пусть, как-то предположил Фокс, и как мы докажем на этих страницах, Далримпл ошибался, думая, что Макферсоновы выписки сделаны из собственноручной автобиографии, а не из Диконсоновой переделки, он, очевидно, видел бумаги Нэрна из коллекции Карта, по большей части в том виде, как они стали опубликованы впоследствии Макферсоном.
В якобитской переписке английская знать фигурировала с титулами времени Иакова II; титулы, полученные при Вильгельме III не признавались.
Указанное изложение разговоров см. в Жизни Иакова II Кларка (Диконсона), в месте, на которое и ссылается Маколей (ii, 55): Эта часть моей истории взята главным образом из в особенности важен и интересен текст, что начинается на странице 444 и заканчивается на странице 450 второго тома.
Сообщают, что этот пассаж у Диконсона был подчёркнут рукою Старого Претендента, хотя свидетельство это несколько обесценено тем обстоятельством, что ко времени описываемых событий последнему было всего лишь четыре года.
Carte MSS., 209, f. 430 (переведено с французского), письмо из Лондона, написанное Хуком и датированное 22 апреля 1704 года, копия из французских архивов. Оригинал в бумагах Нэрна не датирован.
C.S.P. (Dom.), 1690 91, 547; Portland Papers, H.M.C., iii, 477.
II ne donnoit jamais manger (ce qui netoit pas le moyen de gagner les officers Anglais). (News-letter in Denbigh Papers, H.M.C., vii, 220.)
То есть, донесли Вильгельму о заговоре Анны через его наперсника: Иоганна Вильгельма фон Бентинка пр. пер.
II ne donnoit jamais manger (ce qui netoit pas le moyen de gagner les officers Anglais). (News-letter in Denbigh Papers, H.M.C., vii, 220.)
Король никогда не обращал на него внимания, словно тот был распоследним пажом, словно имя его никогда не появлялось на газетных листах, хотя я склонна думать, что пуля, деликатно поцеловавшая королевское плечо, прошла столь же близко и от его королевского высочества (Описание того, с какой невоздержанной злобой король Вильгельм и королева Мария обращались с сестрой королевы, принцессой Датской, написано Сарой, герцогиней Мальборо). Копии этой рукописи присутствуют в Бленхейме и Элтопе; записка написана Сарой ради блага мистера Бёрнета, кто питал такую неистовую страсть к королеве Марии. Записку можно приблизительно отнести к 1702-4 гг. То, что рассказ о правлении Вильгельма III в Оправдании Сары представляет собой всего лишь урезанную версию вышеуказанной рукописи, доказывает, что Оправдание - почти современный тому периоду документ.
Переведенное место из доклада в Вену, содержится в приложении к Klopp, Der Fall des Hauses Stuart, vi, 375. Мистер Аткинсон согласен с тем, что наиболее удовлетворительным объяснением остаётся объяснение данное королём, сказавшим Ноттингему то, что наказал Мальборо за разжигание разлада и недовольства в армии и за переписку с Сен-Жерменом. Вильгельм добавил, что не стал наказывать Мальборо слишком сильно, с учётом значимости его заслуг по службе. С этим невозможно спорить. Но мистер Аткинсон использует в качестве авторитетного источника Уолсли, ссылаясь на (ii, 263). Сам же Уолсли ссылается на том XI 11 Tracts in the Athenum Library. Изучающим историю будет интересно узнать, что это за материал. Это один из пасквилей, выпущенных против Мальборо в 1711 году; титулом стоит Карманное зеркальце Оливера. Издание анонимное, но стиль тот же, что в продукции упомянутой в прежних главах миссис Менли, и, очевидно, вышел из той же фабрики партийной пропаганды. И то, что подобный мусор, появившийся через девятнадцать лет после описываемых событий, перешёл от одного авторитетного и доброжелательного историка к другому как самое удовлетворительное объяснение иллюстрирует всю эфемерность оснований, на коих строят и самые добросовестные авторы.
Оправдание, сс. 43 след., письма датированы 5 и 6 февраля 1692.
Ср. Касательно мерзейшей затеи Стефена Блекхеда и Роберта Янга епископа Рочестерского, в Harleian Miscellany, x, i.
Переписка Вильгельма III и Портленда, i, 171, une chose bien dlicate.
Смотри ссылки у Паджета на Boyer, Ralph, Kennet, Oldmixon, etc., в Парадоксах и загадках, стр. 27. Luttrell, Relation, iii, 328. С другой стороны, Маколей, iv, 510, цитата LHermitage.
Письмо короля Вильгельма от 18 июня к Шрусбери, Коксу; переписка Шрусбери, с. 457.
Детальный и вдумчивый анализ каждого из этих документов опубликован в The English Historical Review в апреле 1897 достопочтенным Артуром Парнелем, подполковником Королевских инженеров. Автор приходит к выводу, что бумаги не только сплошь недостоверны, но, в большинстве случаев, в особенности Камаретское письмо, намеренно сфабрикованы. Его аргументы опровергаются в том же издании от июля 1920 профессором Г.Девисом. Две названных статьи, взятые вместе, дают всеобъемлющую картину дискуссии вокруг вопроса.
Авторская вставка, так как транспортам не было места в брестском плане, они уместны лишь в рассуждении возвращения Иакова.
Возможно, что следующий, воображаемый диалог более соответствует жизни и реалиям времени, нежели безобразные предположения, принятые историками:
Годольфин: Флойд снова навестил нас, сир.
Король Вильгельм: Удалось ли что-нибудь выпытать у него?
Годольфин: Брестский план известен им во всех подробностях. Он рассказал всё о нём адмиралу.
Король Вильгельм. Не думаю, что теперь это имеет значение: они отозвали к Бресту войска из Фландрии. Но что вы дали ему взамен?
Годольфин: Он уехал с тем, с чем приехал. По сути, я вернул ему в точности то, о чём он рассказал Расселу.
Король Вильгельм: Возможно, это собьёт их с толку: но мы должны позаботиться о том, чтобы в должное время двинуться в какое-то другое место, если найдём Брест в готовности. Пока нам не стоит принимать решения. Флот ещё не готов. Порты кишат шпионами, но решение о цели экспедиции остаётся за нами. Кстати, милорд, как поживает в изгнании очаровательная королева?
Годольфин (кланяясь): Сир, я собираюсь порадовать её, послав какие-нибудь сладкие лакомства.
Мальборо и брестская экспедиция, в The English Historical Review, 1894.
Замечательным исключением стал профессор Безил Вильямс, кто, в своём Стенхопе (1932), упустив, судя по всему, из виду давние исследования и устоявшееся за последние сорок лет мнение, привычно или покорно воспроизводит грубое и вопиющее злословие о том, что генерал Толлемаш пал жертвою предательства Мальборо в злополучной брестской экспедиции (с. 15).
Feiling, сс. 295 296, 306. Следуя LHermitage (Add. MSS., 17677 O.O., f. 279 verso), Мальборо и Шрусбери подписались на 10,000 каждый, и Годольфин на 7000.
Во время подготовки к разбирательству дела Харли, графа Оксфорда, родственник Харли пришёл к герцогине Мальборо с копией письма от герцога к Претенденту. Герцогиня взяла письмо, прочла его и порвала на части. Затем он показал ей оригинал. В скором времени, разбирательство было прекращено из за мнимых противоречий между Лордами и Общинами (Сьюард, Anecdotes, с. 268.)
См. копию этих инструкций у Макферсона, Original Papers, i, 456.
S.P. (Dom.), Admiralty Entry Book. Подробности об экспедиции см. в Finch Papers, H.M.C., ii, и в House of Lords Papers, 1694 95, H.M.C., с. 484 след.
Мемуары, i, 132. C.T. Wilson, британский биограф Бервика, защищает своего героя, говоря, что сэр Джордж Баркли намеревался лишь похитить короля, и, несомненно убеждал Бервика в том, что дело может быть исполнено без причинения телесного ущерба высочайшему пленнику. В поддержку своего тезиса он смог найти и цитирует иное место в Мемуарах (James II and the Duke of Berwick (1876), с. 401.) Принять это можно лишь на слово, подтверждений достоверности нет.
Признание Фенвика напечатано в Buccleuch Papers, H.M.C., ii, 393 396, и во множестве иных изданий.
Очень старый статут. Парламент выступает, как высший суд государства, имея право трактовать закон по-своему. Обвинение в измене кончается Актом (на голосовании Биллем) об опале или Биллем об измене это ставит обвинённого вне закона, он имеет выбором оправдание либо потерю головы с полной конфискацией имущества. Возможности защиты такого обвиняемого ограничены. Лорды (Верхняя палата) судят лордов, выступая как верховный трибунал государства, при обвинителях из Общин. Иначе невозможно: лорды неподсудны Общинам. В случае Фенвика, шёл встречный процесс: осуждение Фенвика и осуждение Фенвиком пр. перев.
Coxe, Shrewsbury Correspondence, сс. 147 148, 151. Ответ Вильгельма датирован 10/20 сентября.
1 декабря 1696, Coxe; Shrewsbury Correspondence, сс. 438 439. По словам голландского посла, Л'Эрмитажа, Мальборо в своём выступлении также сказал, что его не в чем обинить со дня отъезда [от короля Иакова в 1688] Add. MSS. 17677, Q.Q., f. 626.
Ср. Вернон к Шрусбери, 24 ноября 1696: Кажется, он [Мальборо] весьма заинтересован в этом деле [обвинении Фенвика] и действует так, чтобы провести его (The Vernon Letters, i, 72.)
Denbigh Papers, H.M.C., vii, 220; the Duchess of Marlborough to David Mallet, October 4, 1744 (Spencer MSS.); Luttrells Diary, ii, 550; Macaulay, iv, 296.
Lansdowne MSS., 825, f. 121. G. M. Trevelyan, Ramillies and the Union with Scotland, p. 7.
Дартмут, примечание к Бёрнету, iii, 267. Пример чистоты почерка Мальборо читатель найдёт в иллюстрациях к этой книге. Почерк самого Евгения был куда хуже почерка Мальборо. Одновременно та же история была поведана профессору истории из Базеля (The Travels of Zacharias Conrad von Uffenbach (edition 1928), p. 66).
Мольтке-старший, воспитанный в аскетических старопрусских понятиях, всегда был особо внимателен к расходу свечей.
G. Bryce, The Remarkable History of the Hudsons Bay Company (1900), p 30.
Paradoxes and Puzzles, p. 12, ссылка на Алисона. Marlborough, i, 283; ii, 394 395.
Мальборо Саре (Blenheim MSS.)
Гаага, 7 апреля 1711
* 21-го имел счастье получить от тебя, но через сэра Р[ичарда] Т[емпля], а не с почтой. Касаемо продажи Монтегю Хауса: если молодые люди смогут выручить сорок тысяч фунтов и будут столь благоразумны, что пустят всю сумму на погашение долга, я соглашусь с целесообразностью такой сделки; но затем пусть они и не помышляют о новом строительстве, довольствуясь жилищем, что смогут купить или снять.
Прошу тебя: пошли за Уилом Лавгровом, покажи ему прилагаемый список, выясни и сообщи, где моё вино его нет в моём погребе; по возможности, я бы хотел узнать о том, где находится это вино до отъезда отсюда, то есть до конца следующей недели.
Вложение: [написанное собственноручно герцогом] список остатков, предоставленный мне Уилом Лавгровом когда я последний раз был в Англии, и я ожидал найти всё это в моём погребе, но нашёл лишь то, что означено на оборотной стороне.
2 бочонка выдержанного мозельского
5 бочонка молодого мозельского
17 дюжин выдержанного хереса
9 дюжин пинт хереса
3 дюжины кварт } сэр Ген: пекарня
4 дюжины пинт } сэр Ген: пекарня
9 дюжин кварт рома
14 кварт виски (of Usqu bath)
12 бутылей итальянского вина
39 бутылей токайского короля Августа
80 бутылей старого токайского от принца
17 бутылей того, что пришло в последний раз от принца, остаток слит в бочку
2 бочки с остатком
[На оборотной стороне]
Вино в погребе Его Сиятельства в Гааге, акт о фактическом состоянии -
Бочонков рейнского 4
Бочонков токайского 2
Квартовых бутылей токайского 13
Всего, пинты 12
Квартовые бутыли рома 6
Квартовые бутыли хереса 10
Всего, пинты 21
[Надписано Сарой] этот Уилл Лавгров мошенничает и продаёт вино герцога и большинство слуг его люди того же пошиба.
Это противоречит всем свидетельствам; общепризнанно, что порядок в лагерях Мальборо был наилучшим во всей Европе.
На портрете видно, что волосы, на самом деле, обрезаны. Кнеллер оставил эскиз, где она изображена с остриженными волосами.
Людовик XIV к Буффлеру, 12 июля 1697; P. Grimblot, Letters of William III and Louis XIV, i, 20.
Речь о создании Земельного Банка с правами Банка Англии (последний был проектом вигов, и финансировал войны Вильгельма), для операций с земельной собственностью, в том числе с правом эмиссии бумажной валюты, обеспеченной земельной собственностью. Земельный Банк был торийским начинанием пр. перев.
Единственный источник этой ремарки: Жизнь двух знаменитых генералов.
См. Establishment of the Duke of Gloucesters Family, August [?] 1697 [? 8], в C.S.P. (Domestic), 1696 97, p. 343; также два письма Мальборо к Бёрнету в Бодлиане (Add. MSS., A. 291).
Поуп, Эссе о человеке, Вторая эпистола/ Перевод В. Микушевича
Lord Sunderland to Mrs Boscawen, December 31, 1698, Blenheim MSS.
Wolseley (ii, 328) описка you вместо then и неверное датирование письма 1698 годом.
Correspondence of William III and Portland (Royal Dutch Historical Society, 1927), No. 23, letter 273.
Coxe, i, 102. Кокс цитирует несколько доселе неопубликованных писем Вернона к Шрусбери.
Ср. Mmoire pour M. Poussin, April 15, 1701, in P.R.O. transcripts.
Мисс Стрикленд (Strickland, Lives of the Queens of England, vol. xi) именует автора Льюис Дженкинс. В действительности, он Дженкин Льюис, валлиец, конюший, прислужник герцога Глостерского. Возможно, эта ошибка мисс Стрикленд стала причиной того, что этот трактат ушёл от внимания составителей Справочника отечественных биографий и общеупотребительных библиографий.
LHermitage to the States-General, November 1/ 12, 1700 (Add. MSS., 17677 U.U., f. 324).
В этой главе по большей части использованы общепризнанные работы Сен-Симона, Бодрийара, Хиппо, Легрелля, Вон Ноордена, Лависса, Васта, Клоопа и выдержки из французских официальных документов.
Наше положение серьёзно пострадает, если мы дадим Франции то, что она просит: они станут сильнее
См. важную переписку, опубликованную C. Hippeau в LAvnement des Bourbons (1875).
Michel le Vassor к Sir William Trumbull, 15 ноября 1700, Downshire Papers, H.M.C., ii, 800.
Небольшая контрмина, подводимая против минной галереи. Мины взрываются, камуфлеты пыхают.
Ltonnement des gens qui se trouvrent nomms fut sans gal, Milord Marlborough prit la parole et dit quil estoit vray quil avoit eu connoissance dudit traitt, mais quon ne trouveroit rien redire sa conduite sil pouvoit parler; or il faut scavoir pour entendre cette rponse que les Ministres prettent serment de ne rien dire de ce qui se fait dans le conseil et quil prtextoit son silence de cette raison. Остававшаяся до сих пор без внимания речь Мальборо, доложена Талларом в отчёте от 24 марта. О ходе прений см. Klopp, Der Fall des Hauses Stuart, ix, 194 сл.
См. статьи об этих людях в Национальном биографическом словаре. Большое число писем Кадогана и Кардоннела хранятся в Британском музее.
К сожалению, хороших книг о принце Евгении на английском языке нет. В 1864 году появилась непревзойдённая до сих пор биография пера фон Арнета, но перевода с неё не сделано. Затем последовали разные германские монографии посвящённые аспектам карьеры Евгения, но историческим исследованиям мешает то обстоятельство, что в 1810-11 годах, при подъёме антинаполеоновского движения в Австрии, появились и получили широкое распространение множество книг с неправдивыми или поддельными письмами и воспоминаниями, приписанными Евгению. Том мемуаров, написанных князем Шарлем де Линем, состряпан из французского переложения более или менее достоверных анекдотов, взятых у Мовильона; книжка эта переведена на английский и осталась в широком обращении до наших дней. Приятное чтение, но подделка - и неопытный читатель должен иметь это ввиду. См. также интересный взгляд на вопрос Bruno Bhm в Die Sammlung der hinterlassenen politischen Schriften des Prinzes Eugen von Savoyen: Eine Flschung des 19ten Jabrbunderts (1900), в особенности приложение.
Кардоннел к Эллису, помощнику государственного секретаря, Уайтхол (должно быть Гаага), 4/15 июля 1701 (Add. MSS., 20917, f. 309).
Штаты арендовали для меня дом принца Морриса (Мальборо Годольфину, 19/30 июля 1701, Blenheim MSS.).
Marlborough к Godolphin, July 11/ 22 (Coxe). В другом письме от того же дня он замечает, что король провёл незначительную беседу с послом Франции, и затем покинул Гаагу без дальнейших бесед с ним наедине.
DAvaux к Louis XIV, 4 августа 1701 (Legrelle, La Diplomatic franaise et la Succession de LEspagne, v, 146).
Леди Мальборо прибыла в Лоо вечером субботы и имела честь принять королевского посланца в своих покоях - Cardonnel к Ellis, 10/21 октября 1701, Add. MSS., 20917, f. 358.
Точные цифры можно найти и в журнале Общин, xiii, 64-65. Император обязался выставить шестьдесят шесть пехотных полков и двадцать четыре конных; голландцы восемьдесят два пехотных и двадцать конных; англичане тридцать три пехотных и семь конных. Общины согласились с таким соотношением 10 января 1702.
Это и следующие четыре письма перепечатаны с оригиналов, хранящихся в Бленхейме.
Marlborough к Brydges, 14/25 ноября 1701, Huntington Library MSS.
Ce quon en peut dire est que, se menageant en habile homme des deux costes, il est a croire que nayant plus dans le conseil le comte de Rochester et my [lord ] Godolphin pour lappuyer, il se menagera encore davantage pour bien faire. (Add . MSS., 17677, xx, ff. 190 verso, 198 verso.)
Доклад Вратислава из Лондона от 13/24 января 1702, переведено из Klopp, ix, 457.
Доклад Вратислава из Лондона от 24 февраля / 7 марта 1702, переведено из Klopp, ix, 479.
Carl von Noorden , Europische Geschichte im achtzehnten Jabrhundert, Einleitung.
|