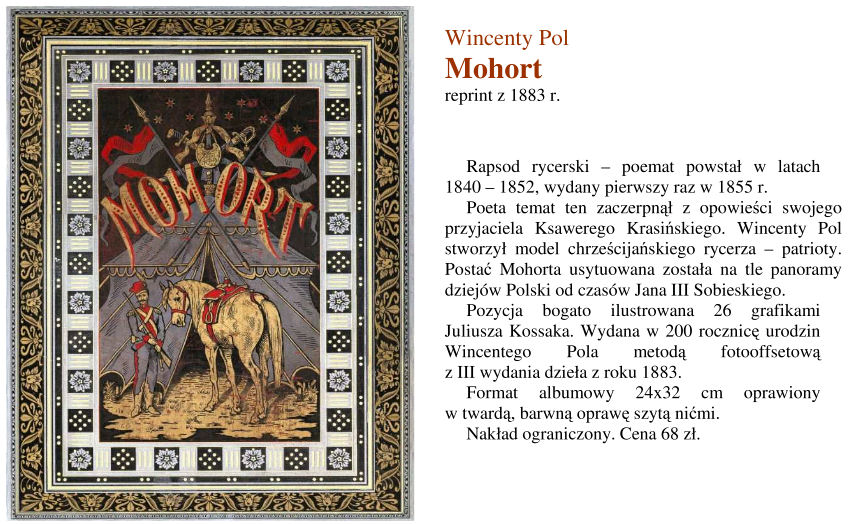![Первая встреча [Неизвестен]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/mohort03.jpg) Свободно зашел в понурый дом, который освещал ночник на полке,
с которой свисали три шнура, что их кто-то развесил, как часы,
голубой дымок от тлеющего волокна тяжёлой полосой стлался по дому.
В большой печи по временам огонь потрескивал и языки бегали, отраженные в оконных стеклах - дом был пустой, как сарай. Кроме колышков в стене, лавки и стола, кроме флажка, ничего больше не было. Протёр глаза, ибо не верил тому, что видел, думая, не приснилось ли мне такое видение в ночную пору: так, вроде из могилы, восстал тот гетман, такая мне картина показалась ясно, вооруженный мужчина сидел передо мною, седой, отважный, грозный и понурый, на козлах, вытесанных с дерева, как на коне - и хоть дремал, чутким был и о себе не забывал: спал, но в правой руке пистолет держал. Белый волос легко серебром укрывал его голову, и черты лица были так прекрасно суровы, что и в самом деле был издалека похож на статую, а не на мужчину. Был то господин Мохорт. А когда стоял перед ним, т.к. ему должен был отдать письма отца, понял, глядя на него, почему отец говорил: "Кланяйся! Кланяйся! И не забудь во рту языка, когда будешь приветствовать господина поручика!"
Был то воин из-под знака, большой охранник гетманской дороги, чуткий, как журавль, вся жизнь с оружием, как лев отважен, как статуя спокоен. Долго думал, что нужно делать: Будить? Не будить? - тяжело решить; стою и жду - ночник мигает, но звякнул палаш с противоположной стороны, господин поручик раскрыл вдруг глаза: "Слава Иисусу Христу!" - "На веки веков!" - тихо ответил я, он с козла своего, как с коня, слез, поправил ночник, а потом бросил не меня суровый
взгляд и смерил остро с ног до головы и кратко спросил, как я добрался. Я сказал, он все внимательно выслушал: "Как будет день, то письма прочитаю, а сейчас сына господина Антония, как кровного родственника с уважением приветствую! Сегодня уже поздно, и я на службе, лишь завтра Вам на границе помогу обжиться, немало молодежи здесь начинало службу, будем по-старому хозяйствовать!
Подошёл к полке, где стоял ночник, к шнуркам, которые служили часами,
сосчитал узелки на тлеющих фитильках, и сказал: "До утра еще далеко, возвращайся к лошадям, ибо замерзли, может, а как протрубят на утреннюю зарю, жду вас здесь", - потом крикнул - "Служба!" Старший товарищ, мужчина уже не молодой, вошел в дом - "Вот, прибыл к нам товарищ! Дайте ему переночевать, а коням удобства", сказал господин поручик, провел до самого порога и вверил нас богу. Когда рассвело, тогда увидел, что был в окопе за закрытыми воротами, была то такая крепость, окруженная валом. Над берегом Днепра был сделан окоп, а в нём стояли кони, на воротах стража,
Над воротами облик божий, а под ним надпись: "Под твою защиту".
Лишь я проснулся и убрал свою постель, как прибыл товарищ: пора в строй,
ибо уже проиграли утреннюю зорю.
"Внимание!" - Мохорт стоял перед строем: сверху, над воротами, было маленькое крыльцо, с него трубы по росе отозвались, и голос их затих за Днепровским берегом. Побудку сыграли трубачи, которую столетиями играли, как утреннюю зорю. Она с башни Марии над Польшей плачет чистыми слезами божьей матери. А потом мужские голоса божественную песню послали в небо.
Как не забуду никогда первой битвы, так не смогу забыть и той первой молитвы, ибо странный урок дала та утренняя песня польских рыцарей к божьей матери, которая веками от поколений старой Польши на полях сражений звучала, как и здесь, сейчас, в днепровских обрывах на границах Польши в Украине. После той молитвы, спетой хором, доложили рапорты ночные разъезды, потом шла очередь служб и указания, а минутой позже, когда закончили, меня снова Мохорт приветствовал и сказал, что письмо отца прочитал, что хочет осмотреть моего коня. С ночи стоял мой лагерь сбоку,
люди возле брички, оседланные кони, привязанные спереди к поручню.
"Здесь целый двор, а выглядишь так, вроде сам один можешь ездить миром!"
Потом осмотрел мой лагерь кругом, коней и людей, и сзади и спереди,
и сказал мне, в конце концов, поморщив лоб: "Да, кони добрые, и не были голодные! А что касается людей, то еще увидим. Будешь ездить со мной, но на моём коне, а твои вещи и людей поместим здесь возле замка, в безопасном месте, только своих коней прикажи расковать сейчас, ибо не очень им удобно, в конюшню их пусти - пусть с дороги отдохнут, ибо в войске конь нужен не на один раз. Пишет мне отец, что ты рвешься в мир, что кровь живо в жилах кипит, следовательно, подвергнем
испытанию здесь господина брата.
Есть здесь поле, увидим, сможешь ли, убивать не хорошо - кровь вещь святая, но не на печи сидеть орлятам.
"Птица моя, птица панцирного знака! "
Вот сегодня собственно на границу и выйдем, поездишь со мной от дороги к дороге. Нужно сразу рассмотреть, что за рыцарь вырос, что ты отважен, нам не лишнее, и отцы имели красную кровь,
как свидетельствуют степные могилы* и курганы. Когда это говорил, свободно себе шагал и вышли мы с ним на гору высокую, откуда весь край сразу открылся, Днепр от обрыва разлился далеко, сколько видел глаз, мир за Днепром простирался широко, а вдоль реки, между скалами клубился утренний туман. В этот же момент первый блеск солнца осветил степь, мир пробуждался,
Днепр был сонный и еще продолжал спать под клубами тумана...
Едва я мог сдержать в душе впечатления. Ах! Ибо и душа еще не проснулась...
А Мохорт, кажется, меня понял, ибо сказал: "И они имели кровь красную!"
Труба над воротами дала сигнал похода.
"Возьми покушать, чтобы не был голодный, ибо всякое бывает, заряди оружие, а мне время проверить людей и коней!"
Ибо нужно знать, хоть войны не было, На границе редко выдаётся спокойный день, резня в Умани ещё была в памяти, чумы боялись, солдаты днем и ночью были на границе в постоянном напряжении. Задач много, везде не поспеть, а командир ни себе, ни подчиненным спуска не давал, служить нужно было на совесть, без обмана. Там на какой-то двор напали татары, возле границы обокрали церковь, там казаки украли табун коней, а челядь забрали и село сожгли, иногда и бандиты нападали, силой захватывали языка. Временами и наши добровольцы в ответ направлялись в Сечь. Когда Мохорт объезжал границу, всегда выступал отрядом не меньше ста верховых, готовых к бою - с таким войском и в тот раз оставили станицу.
Свободно зашел в понурый дом, который освещал ночник на полке,
с которой свисали три шнура, что их кто-то развесил, как часы,
голубой дымок от тлеющего волокна тяжёлой полосой стлался по дому.
В большой печи по временам огонь потрескивал и языки бегали, отраженные в оконных стеклах - дом был пустой, как сарай. Кроме колышков в стене, лавки и стола, кроме флажка, ничего больше не было. Протёр глаза, ибо не верил тому, что видел, думая, не приснилось ли мне такое видение в ночную пору: так, вроде из могилы, восстал тот гетман, такая мне картина показалась ясно, вооруженный мужчина сидел передо мною, седой, отважный, грозный и понурый, на козлах, вытесанных с дерева, как на коне - и хоть дремал, чутким был и о себе не забывал: спал, но в правой руке пистолет держал. Белый волос легко серебром укрывал его голову, и черты лица были так прекрасно суровы, что и в самом деле был издалека похож на статую, а не на мужчину. Был то господин Мохорт. А когда стоял перед ним, т.к. ему должен был отдать письма отца, понял, глядя на него, почему отец говорил: "Кланяйся! Кланяйся! И не забудь во рту языка, когда будешь приветствовать господина поручика!"
Был то воин из-под знака, большой охранник гетманской дороги, чуткий, как журавль, вся жизнь с оружием, как лев отважен, как статуя спокоен. Долго думал, что нужно делать: Будить? Не будить? - тяжело решить; стою и жду - ночник мигает, но звякнул палаш с противоположной стороны, господин поручик раскрыл вдруг глаза: "Слава Иисусу Христу!" - "На веки веков!" - тихо ответил я, он с козла своего, как с коня, слез, поправил ночник, а потом бросил не меня суровый
взгляд и смерил остро с ног до головы и кратко спросил, как я добрался. Я сказал, он все внимательно выслушал: "Как будет день, то письма прочитаю, а сейчас сына господина Антония, как кровного родственника с уважением приветствую! Сегодня уже поздно, и я на службе, лишь завтра Вам на границе помогу обжиться, немало молодежи здесь начинало службу, будем по-старому хозяйствовать!
Подошёл к полке, где стоял ночник, к шнуркам, которые служили часами,
сосчитал узелки на тлеющих фитильках, и сказал: "До утра еще далеко, возвращайся к лошадям, ибо замерзли, может, а как протрубят на утреннюю зарю, жду вас здесь", - потом крикнул - "Служба!" Старший товарищ, мужчина уже не молодой, вошел в дом - "Вот, прибыл к нам товарищ! Дайте ему переночевать, а коням удобства", сказал господин поручик, провел до самого порога и вверил нас богу. Когда рассвело, тогда увидел, что был в окопе за закрытыми воротами, была то такая крепость, окруженная валом. Над берегом Днепра был сделан окоп, а в нём стояли кони, на воротах стража,
Над воротами облик божий, а под ним надпись: "Под твою защиту".
Лишь я проснулся и убрал свою постель, как прибыл товарищ: пора в строй,
ибо уже проиграли утреннюю зорю.
"Внимание!" - Мохорт стоял перед строем: сверху, над воротами, было маленькое крыльцо, с него трубы по росе отозвались, и голос их затих за Днепровским берегом. Побудку сыграли трубачи, которую столетиями играли, как утреннюю зорю. Она с башни Марии над Польшей плачет чистыми слезами божьей матери. А потом мужские голоса божественную песню послали в небо.
Как не забуду никогда первой битвы, так не смогу забыть и той первой молитвы, ибо странный урок дала та утренняя песня польских рыцарей к божьей матери, которая веками от поколений старой Польши на полях сражений звучала, как и здесь, сейчас, в днепровских обрывах на границах Польши в Украине. После той молитвы, спетой хором, доложили рапорты ночные разъезды, потом шла очередь служб и указания, а минутой позже, когда закончили, меня снова Мохорт приветствовал и сказал, что письмо отца прочитал, что хочет осмотреть моего коня. С ночи стоял мой лагерь сбоку,
люди возле брички, оседланные кони, привязанные спереди к поручню.
"Здесь целый двор, а выглядишь так, вроде сам один можешь ездить миром!"
Потом осмотрел мой лагерь кругом, коней и людей, и сзади и спереди,
и сказал мне, в конце концов, поморщив лоб: "Да, кони добрые, и не были голодные! А что касается людей, то еще увидим. Будешь ездить со мной, но на моём коне, а твои вещи и людей поместим здесь возле замка, в безопасном месте, только своих коней прикажи расковать сейчас, ибо не очень им удобно, в конюшню их пусти - пусть с дороги отдохнут, ибо в войске конь нужен не на один раз. Пишет мне отец, что ты рвешься в мир, что кровь живо в жилах кипит, следовательно, подвергнем
испытанию здесь господина брата.
Есть здесь поле, увидим, сможешь ли, убивать не хорошо - кровь вещь святая, но не на печи сидеть орлятам.
"Птица моя, птица панцирного знака! "
Вот сегодня собственно на границу и выйдем, поездишь со мной от дороги к дороге. Нужно сразу рассмотреть, что за рыцарь вырос, что ты отважен, нам не лишнее, и отцы имели красную кровь,
как свидетельствуют степные могилы* и курганы. Когда это говорил, свободно себе шагал и вышли мы с ним на гору высокую, откуда весь край сразу открылся, Днепр от обрыва разлился далеко, сколько видел глаз, мир за Днепром простирался широко, а вдоль реки, между скалами клубился утренний туман. В этот же момент первый блеск солнца осветил степь, мир пробуждался,
Днепр был сонный и еще продолжал спать под клубами тумана...
Едва я мог сдержать в душе впечатления. Ах! Ибо и душа еще не проснулась...
А Мохорт, кажется, меня понял, ибо сказал: "И они имели кровь красную!"
Труба над воротами дала сигнал похода.
"Возьми покушать, чтобы не был голодный, ибо всякое бывает, заряди оружие, а мне время проверить людей и коней!"
Ибо нужно знать, хоть войны не было, На границе редко выдаётся спокойный день, резня в Умани ещё была в памяти, чумы боялись, солдаты днем и ночью были на границе в постоянном напряжении. Задач много, везде не поспеть, а командир ни себе, ни подчиненным спуска не давал, служить нужно было на совесть, без обмана. Там на какой-то двор напали татары, возле границы обокрали церковь, там казаки украли табун коней, а челядь забрали и село сожгли, иногда и бандиты нападали, силой захватывали языка. Временами и наши добровольцы в ответ направлялись в Сечь. Когда Мохорт объезжал границу, всегда выступал отрядом не меньше ста верховых, готовых к бою - с таким войском и в тот раз оставили станицу.
![Кафарек [Юлиуш Коссак ]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/kafarek.jpg) Сопровождение было прекрасным, как отправились по дороге, впереди ехал на пятнистом коне старейший трубач, наш знаменитый Кафарек, а за ним сидел на крупе коня "будильник". Так звали петуха, которого возил с собой, ибо был он как сокол для того, чтобы будить ночью, когда был время менять часовых - был черный петух, одетый в красивую шапочку: днем она была на голове, ночью он к ноге был привязан шнурком и будил всех, когда требовалось менять стражу.
Был такой ласковый, что ел только из рук, а возле костра садился нам на плечи,
не касаясь травы, а ночью светил передом, как фонарь. Сам Кафарек был умник знаменитый, и с соколами, и с хортами охотник исправный. При нём бежало всегда несколько хортов,
каждый мог в поединке победить волка.
Когда мы границу выезжали, а ночь заставала нас в степи, быстро зажигал Кафарек ночник и не раз помогал в степи татарину, разрешая ему зажечь трубку и спокойно отдалиться от границы.
От устья Роси - вплоть до места на границе, где в Буг впадает Синюха, шла линия границы и земля была такая пустынная, что только лошадиные следы виднелись. Шесть хоругвей границу стерегли, далеко было от заставы к заставе, несколько рядов могил протянулись степью. А степной черт выбрасывал свои штуки. Господин Мохорт издавна имел такой обычай,
что когда отряд выводил на границу, сам ехал сбоку дальше средины отряда,
чтобы видеть всех воинов отряда и если возникала потребность, быть рядом. Здесь он начинал с утренней зори петь молитву богоматери, все верующие повторяли за ним, песня плыла по утренней росе, кони фыркали, и сила молитвы поднимала ввысь к небу дух.
Голос он имел мощный: бывало крикнет перед собой: "Вольно!" или на задние ряды крикнет, то всем людям казалось, что крикнул им в ухо, хоть и не старался, а в командах даже кони не ошибались. С того места было удобнее всего, когда в степях уже станет холодно, заметить зайца и подстрелить,
или в походе хортов развеселить. Если Кафарек проморгает зайца впереди,
то уж господин Мохорт точно его не выпустит. И всегда, обозревая границы, имели печёного или в борще зайца. И как казаки снабжали нас свеклой, так лисы в оврагах - лисятами. Господин Мохорт в степи охотился и всегда радушно дарил волков. Как новичок, я на первых порах ехал на левом фланге и конь мой все порывался бежать, заметил это Мохорт - "Как там конь в строю? Ты привык быть всегда только впереди? Скачи ко мне! "- а дальше я одним прыжком направил коня и стал возле него сбоку. "Достаточно!" - крикнул - "Смело ездишь, если так же владеешь саблей, то будет неплохо, ибо точно остановился, но коня нужно вести спокойнее. Как тебе нравится в этих полях? Здесь есть потребность в коне с детства! Первое - то первое поле для сокола, так вот, нужно понять свою рыцарскую роль. Кто в бою погибнет, тот народу мил, бог сеет людей, а люди сеют могилы... Кто имеет бога в сердце, а саблю сбоку, тот должен знать, что всегда нужно иметь перед собой
свою задачу - кто этого не понимает - не рыцарь - а кто рыцарь, тот уже по закону должен жить, знать, что нужно охранять: в первую очередь защищать веру, деву Марию, королеву неба. Потом - защищать границы - и достаточно! Ибо остальное вытекает из этого и уже человеку понятно. Кто таким подходом вооружен, кто при церкви и границе стоит, тот кроме бога ничего не боится. И подходит тебе молчаливость, как рыцарю в большой Родине: Соблюдай закон! Будь образцом,
а все иное доверяй богу или земле... Вот и все установки".
И потом ни слова не сказал больше до самого конца, никогда потом не напоминал, мне его суровая мудрость прочно вошла навсегда в душу! И ничто ее с сердца не сдвинет! Ибо действительно, неплохая то была школа, где кроме неба и степи вокруг были только могилы*, которые свидетельствовали о прошлом, и наших предшественников побелевшие кости. А надо было правду понять на дороге рыцаря и оттуда собственным сердцем измерить. "Эх, птица, птица панцирного знака", в такую правду нужно всегда верить.
Сопровождение было прекрасным, как отправились по дороге, впереди ехал на пятнистом коне старейший трубач, наш знаменитый Кафарек, а за ним сидел на крупе коня "будильник". Так звали петуха, которого возил с собой, ибо был он как сокол для того, чтобы будить ночью, когда был время менять часовых - был черный петух, одетый в красивую шапочку: днем она была на голове, ночью он к ноге был привязан шнурком и будил всех, когда требовалось менять стражу.
Был такой ласковый, что ел только из рук, а возле костра садился нам на плечи,
не касаясь травы, а ночью светил передом, как фонарь. Сам Кафарек был умник знаменитый, и с соколами, и с хортами охотник исправный. При нём бежало всегда несколько хортов,
каждый мог в поединке победить волка.
Когда мы границу выезжали, а ночь заставала нас в степи, быстро зажигал Кафарек ночник и не раз помогал в степи татарину, разрешая ему зажечь трубку и спокойно отдалиться от границы.
От устья Роси - вплоть до места на границе, где в Буг впадает Синюха, шла линия границы и земля была такая пустынная, что только лошадиные следы виднелись. Шесть хоругвей границу стерегли, далеко было от заставы к заставе, несколько рядов могил протянулись степью. А степной черт выбрасывал свои штуки. Господин Мохорт издавна имел такой обычай,
что когда отряд выводил на границу, сам ехал сбоку дальше средины отряда,
чтобы видеть всех воинов отряда и если возникала потребность, быть рядом. Здесь он начинал с утренней зори петь молитву богоматери, все верующие повторяли за ним, песня плыла по утренней росе, кони фыркали, и сила молитвы поднимала ввысь к небу дух.
Голос он имел мощный: бывало крикнет перед собой: "Вольно!" или на задние ряды крикнет, то всем людям казалось, что крикнул им в ухо, хоть и не старался, а в командах даже кони не ошибались. С того места было удобнее всего, когда в степях уже станет холодно, заметить зайца и подстрелить,
или в походе хортов развеселить. Если Кафарек проморгает зайца впереди,
то уж господин Мохорт точно его не выпустит. И всегда, обозревая границы, имели печёного или в борще зайца. И как казаки снабжали нас свеклой, так лисы в оврагах - лисятами. Господин Мохорт в степи охотился и всегда радушно дарил волков. Как новичок, я на первых порах ехал на левом фланге и конь мой все порывался бежать, заметил это Мохорт - "Как там конь в строю? Ты привык быть всегда только впереди? Скачи ко мне! "- а дальше я одним прыжком направил коня и стал возле него сбоку. "Достаточно!" - крикнул - "Смело ездишь, если так же владеешь саблей, то будет неплохо, ибо точно остановился, но коня нужно вести спокойнее. Как тебе нравится в этих полях? Здесь есть потребность в коне с детства! Первое - то первое поле для сокола, так вот, нужно понять свою рыцарскую роль. Кто в бою погибнет, тот народу мил, бог сеет людей, а люди сеют могилы... Кто имеет бога в сердце, а саблю сбоку, тот должен знать, что всегда нужно иметь перед собой
свою задачу - кто этого не понимает - не рыцарь - а кто рыцарь, тот уже по закону должен жить, знать, что нужно охранять: в первую очередь защищать веру, деву Марию, королеву неба. Потом - защищать границы - и достаточно! Ибо остальное вытекает из этого и уже человеку понятно. Кто таким подходом вооружен, кто при церкви и границе стоит, тот кроме бога ничего не боится. И подходит тебе молчаливость, как рыцарю в большой Родине: Соблюдай закон! Будь образцом,
а все иное доверяй богу или земле... Вот и все установки".
И потом ни слова не сказал больше до самого конца, никогда потом не напоминал, мне его суровая мудрость прочно вошла навсегда в душу! И ничто ее с сердца не сдвинет! Ибо действительно, неплохая то была школа, где кроме неба и степи вокруг были только могилы*, которые свидетельствовали о прошлом, и наших предшественников побелевшие кости. А надо было правду понять на дороге рыцаря и оттуда собственным сердцем измерить. "Эх, птица, птица панцирного знака", в такую правду нужно всегда верить.
![Симон Мохорт [ Коссак, акварель]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/s_mohort.jpg)
![Князь Юзеф [Юлиуш Коссак ]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/jozef.jpg) А в то время прибыл в Варшаву Князь Юзеф, что был родственником Кинских, он за границей учился долго, выучил военное дело и получил цезарский регимент, но потому, что с рождения был на чужбине, не знал страны, не имел нужных навыков командира, поэтому не пользовался доверием войска и народа,
люди называли его князь - немец. Король был этим недоволен, ибо ценил его, но нужно было что-то изменить и дать ему особенную подготовку. Господин Огинский набрёл на счастливую мысль - вызвать Мохорта и отдать ему князя: пусть князь узнает живые польские команды, наберётся польского упорства и побудет среди войска и народа. Гетман, старейший друг господина Мохорта,
написал ему письмо: "В боге и с богом! Товарищу задача: Конный и с оружием будешь здесь служить".
А в то время прибыл в Варшаву Князь Юзеф, что был родственником Кинских, он за границей учился долго, выучил военное дело и получил цезарский регимент, но потому, что с рождения был на чужбине, не знал страны, не имел нужных навыков командира, поэтому не пользовался доверием войска и народа,
люди называли его князь - немец. Король был этим недоволен, ибо ценил его, но нужно было что-то изменить и дать ему особенную подготовку. Господин Огинский набрёл на счастливую мысль - вызвать Мохорта и отдать ему князя: пусть князь узнает живые польские команды, наберётся польского упорства и побудет среди войска и народа. Гетман, старейший друг господина Мохорта,
написал ему письмо: "В боге и с богом! Товарищу задача: Конный и с оружием будешь здесь служить".
![Подарки короля [Неизвестен]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/mohort04.jpg)
![Любимые лошади - презентация [Юлиуш Коссак ]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/mohort02.jpg)
![Встреча с татарами [Неизвестен]](/img/m/mohort_g_g/winsent_pol_ru/taniec_tatarski.jpg) Стреляли и рубили "турецкие головы", даже сам Мохорт их похвалил, так и день прошел. Мохорт с пасечником обговаривал перспективы
Стреляли и рубили "турецкие головы", даже сам Мохорт их похвалил, так и день прошел. Мохорт с пасечником обговаривал перспективы