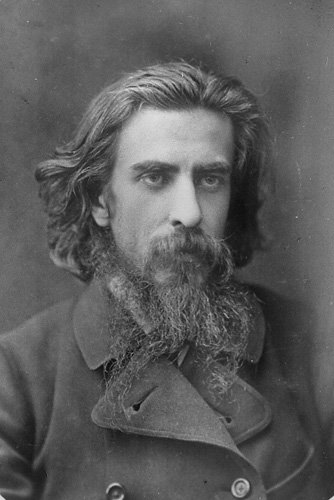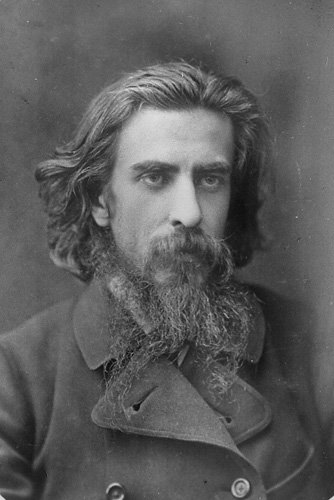
|
|
||
Во всяком случае, нравственность не сводится к добру: это более сложное явление. В свете первого запрета, нарушение которого есть первый грех человека, идея добра видится как принадлежность Дьявола, выступающего не прямо с претензией на авторитет, а обольщающего человека "самостоятельностью". | ||