Голгофа в Лите
День первый
Жорик
Третьяковка
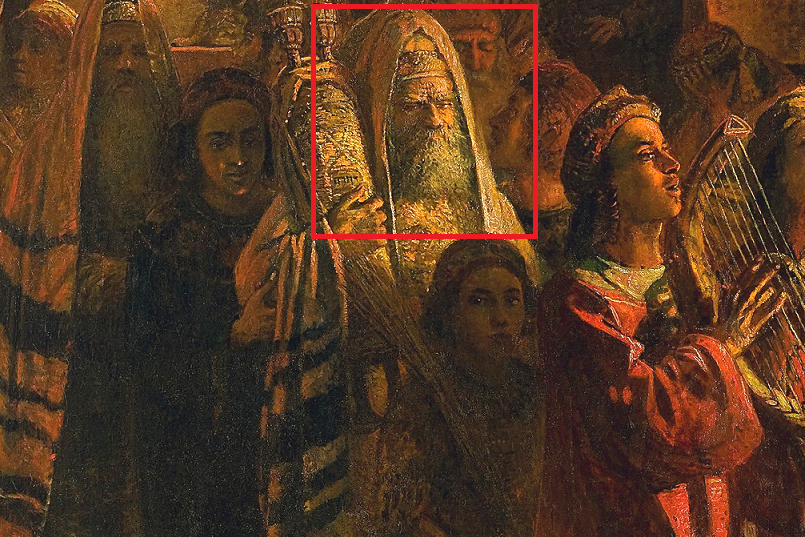
Председатель синедриона Анна, величественный бородатый старец с суровым взглядом был до жути похож на него. Даже было удивительно, вроде бы старец, борода, а у Жорика - никакой растительности. Да и возраст не тот. Однако, вот поди ж ты, откуда у него такая уверенность, что старик на картине на него похож? Хоть кому-то знакомому показать бы. Пр
Меркушкин
Общага
Юрик
Общага

Юрик
Меркушкин
Вторая сессия
Олежка
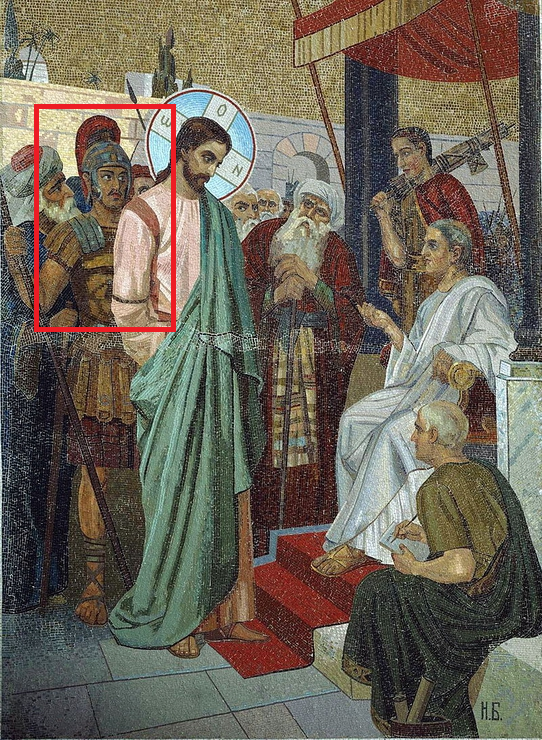
Меркушкин
Кирюха
Меркушкин
Павлуша